Что значит быть студентом - [8]
Неуместность настоящей работы и определялась ее «французскостью» (или «американскостью»). Библиография диссертации вызвала у иных «старших коллег» недоумение: почему в работе по российской истории использовано столько книг и статей на иностранных языках, зачастую посвященных отнюдь не российской высшей школе и — даже! — не исторических? Это же «социология и философия»! Почему автор опирается на англо-американскую славистику в суждениях по ключевым вопросам (чистки в высшей школе первой половины 1920-х гг., отношения студентов и профессоров, профессоров и государства в тот же период): ведь они не знают «нашей специфики»?! Не оттого ли, что, по собственному признанию, он рассказывает о себе «как студенте» и т. д.? Неужели мои оппоненты предполагали, что «одно из двух» — либо «о себе», либо «об историческом студенте»? Вряд ли. Едва ли для них никогда не стоял вопрос об аналитической перспективе и методологии — скорее неприемлемые (по разным причинам, но, почти всегда, далеким от «идеологии» незаинтересованного ученого) перспективу и «приемы» нужно было дискредитировать, представив их как нарушение автономии науки, то есть как «политику, опрокинутую в прошлое», и только, без всяких научно-дисциплинарных опосредовании.
Диссертация оказалась не только характерным примером вестернизации российской гуманитарной науки и общественной жизни. Она также демонстрировала степень этой вестернизации. Для кандидатской она удивительно конспективна: иллюстрации помещены в сноски, развернутых цитат мало. Это — прежде всего анализ. Во-вторых, используемые понятия — двусмысленны. Их можно читать и как операционально-научные, и как эпистемологические (философские), и как политические (я-идеологические). Более или менее осознанное стремление автора совершить «французский жест» в так называемой «постструктуралистской» манере конца 1960–1980-х годов, в то же время оставаясь в пределах науки, наиболее ярко выразилось в этой полисемизации и культивировании небеллегризованного «пунктирного письма»[13]. Сегодня собственный стиль кажется мне откровенно подражательным. Но для неофита это был естественный ход.
Введение
Размышляя о содержании и форме этой работы, автор решил сосредоточить известное внимание на вопросах «общего характера», то есть подумать вместе с читателем о возможности так или иначе строить историко-психологическое исследование — в частности, исследование, обозначенное в названии этой книги, — и даже о принципиальной возможности исторической психологии. Отдавая себе отчет в «странности» такого начала для российской, да и не только для российской, традиции монографического исследования конкретно-исторического сюжета, мы черпали вдохновение в современных теоретических дискуссиях в мировой, а в особенности во французской, исторической науке, с одной стороны, и в том состоянии неуверенности, если не сказать растерянности, которое отличает сегодня тексты методологически обеспокоенных российских ученых, с другой. Кроме того, сам сюжет, избранный для анализа, требует обсуждения ряда важных методологических вопросов, тем более что работ, посвященных «психологии» отдельно взятой большой социальной группы, не так и много в исторической литературе — как отечественной, так и зарубежной[14].
Несмотря на кажущуюся очевидность (ведь предпринимает же автор данное исследование), на этот вопрос едва ли существует простой и однозначный ответ. Во-первых, он связан с более общим вопросом о современном состоянии социальной психологии: ибо исследования больших социальных групп как социально-психологических объектов имеют весьма короткое прошлое и вызывают гораздо больше вопросов, нежели дают ответов[15]. Во-вторых, проблематичной остается «законнорожденность» самой исторической психологии, равно как и ее место на древе социальных наук: если речь идет об ответвлении истории, то едва ли разумно стремиться к моделированию сложившегося в социальной психологии инструментария научного анализа; равно бессмысленна и погоня за некоей неуловимой «историчностью» на территории социальной психологии (и все это при условии, что историческая психология вообще возможна!).
Посмотрим, какие решения предлагали наши предшественники, рискнувшие создать несколько различных версий историко-психологического исследования. Одной из первых возникла так называемая «психоистория», ориентированная на психоанализ и получившая особое распространение в США[16]. Ее представители предпочитали жанр психоаналитической биографии, что было весьма логично в рамках фрейдистской парадигмы. Биографии Вильсона, Гитлера, Александра Македонского и даже самого «отца-основателя» З. Фрейда вошли в моду. Вскоре психоисторики заинтересовались и более сложными для психоаналитического метода историческими реалиями, так называемым коллективным бессознательным — на материале средневековых процессов над ведьмами, прихода германских нацистов к власти, судеб первых американских колонистов[17]. Главные претензии, предъявляемые к психоистории оппонентами, сводились, во-первых, к критике ее теоретической базы — психоанализа как «ненаучной» доктрины и, во-вторых, к изобличению ее антиисторизма, то есть взгляда на исторического по своей сути субъекта (социальную группу) как на раз и навсегда данного, наделенного, так сказать, одной и той же психобиологической социальностью. Кроме того, психоанализ все-таки мало помогал решению проблем исторической психологии больших социальных групп, оставаясь (и будучи изначально) ориентированным на опыт «изолированного» в социальном отношении субъекта буржуазного общества начала века.
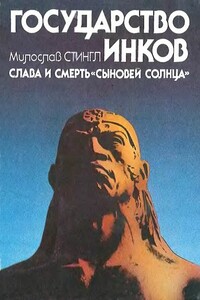
Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.

Боец легендарного 181-го отдельного разведотряда Северного флота Макар Бабиков в годы Великой Отечественной участвовал в самых рискованных рейдах и диверсионных операциях в тылу противника — разгроме немецких гарнизонов на берегах Баренцева моря, захвате артиллерийской батареи на мысе Крестовый и др., — а Золотой Звезды Героя был удостоен за отчаянный десант в южнокорейский город Сейсин в августе 1945 года, когда, высадившись с торпедных катеров, его взвод с боем захватил порт и стратегический мост и, несмотря на непрерывные контратаки японцев, почти сутки удерживал плацдарм до подхода главных сил.Эта книга вошла в золотой фонд мемуаров о Второй мировой войне.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.
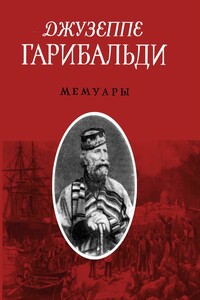
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.