Что значит быть студентом - [7]
С таким багажом, получив доброжелательные советы Копосова, я «высадился» в Париже в ноябре 1995 года. Мне предстоял год учебы в Школе передовых исследований по социальным наукам (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). В качестве темы дипломной работы (diplôme d’études approfondies) я выбрал «Дискурсы о сексуальности в СССР между двумя мировыми войнами (1920–1930-е гг.)». Тем самым моя предыдущая работа не пропала, а проекты диссертации и грантовой работы включили в себя новую составляющую. Тот факт, что тема плохо «стыковалась» с сюжетами, близкими Ю. Шеррер[12], побудил меня искать неформального научного руководителя, каковым в итоге стал Андре Бюргьер, международно признанный специалист по исторической антропологии и истории семьи. Как двойственность моего статуса, так и относительная «широта кругозора», которую я приобрел в последние годы, позволили мне (и подталкивали меня) использовать шанс пребывания в Школе на сто процентов: я посещал семинары П. Бурдье и С. Московичи, Ж. Ревеля и П. Нора, А. Бюргьера и Ж.-Л. Фландрена, по истории немецкой философии между мировыми войнами и по ранней истории социальных наук (конец XIX — начало XX в.), по философии гостеприимства и по юридической кодификации «свободных профессий» в Италии XIX века. Работа над дипломом требовала постоянного совершенствования во французском языке через «глубокое погружение» в новый для меня социальный контекст. В определенный момент я обнаружил, что даже русские фразы строю на французский манер. Интерес к социальной философии, социальной теории и истории сексуальности тем самым приобрел «французский контур». Помимо дипломной работы, он существенно трансформировал мой подход к теме кандидатской диссертации (и грантового проекта для Института «Открытое общество», а также способствовал появлению текстов и докладов по «боковым» сюжетам: «Англо-американская культурная антропология, колониализм и „сексуальность“ аборигенов между мировыми войнами» (для лувенской конференции Международной ассоциации студентов-историков в декабре 1995 г.), «Евгеника и дискурс о сексуальности в Советской России 1920-х гг.» (для семинара А. Бюргьера в мае 1996 г.). Период неофитства середины 1990-х не был и вряд ли мог быть временем совершенного владения усваиваемыми техниками научного и философского анализа. Тем не менее, при всем своем несовершенстве, защищенная в EHESS дипломная работа стала рубежом моей «научной биографии».
Вернувшись из Франции осенью 1996 года, я за три месяца доработал текст кандидатской диссертации. И лексика, и стилистика, и концептуальный аппарат этого сочинения несут на себе печать «французского года». Фуко, Бурдье, социология конвенций Л. Болтански и Л. Тевено использованы здесь характерным для историка способом — не эклектично (если, конечно, не выходить на «метафизический» уровень — здесь мне положительно ближе поздний М. Фуко и П. Бурдье), но с точки зрения тактической полезности тех или иных перспектив и концептов. Поскольку историка прежде всего интересует диахроническое измерение изучаемого явления (темпоральность и ее режимы), любой концепт становится «подвижен», «расплывчат» (сравнительно с его социологическим аналогом, данным в синхронии, т. е. опространствленным). Историк — в равной степени «археолог» и «генеалог», если прибегнуть к словарю Фуко. Он изучает разрывы на фоне преемственности и наоборот. Любая идентичность для него сомнительна — хотя и инструментально необходима. Он «естественным образом» расположен к парадигмальному антидогматизму, смене перспектив.
Перспектива «студента», вокруг которой выстроена эта работа, была не только научным выбором (хотя и им тоже), но и практически ориентированным размышлением о собственном студенчестве (в смысле интегрированности в определенное сообщество, отношений с профессурой и университетской бюрократией, организации учебы, повседневных практик и, в особенности, сексуальности). Важное для автора неизбежно приобрело статус общего. Это общее далеко не всегда выглядит органичным в российском контексте, поскольку осмыслено с помощью чужих концептов, в чужой перспективе. Например, история студенческой сексуальности показалась некоторым старшим коллегам чем-то малозначительным и/или неприличным даже в 1997 году: «Действительно важны другие проблемы! А об этом вслух и говорить-то неловко (о мастурбации, например. — А. М.)… Вы же не медик?!» «Единственно возможный дискурс „о сексе“ — дискурс медицинский» — такова была конвенция, на которую опирались эти высказывания. Автор же исходил из перспективы «политики сексуальности», что позволяло нарушить сложившиеся конвенции, подорвать некоторые старые дискурсивные стратегии и произвести новые. Парадокс в том, что перспектива эта была очевидна для европейца или американца (очевидна по-разному, разумеется), но выглядела странной, импортированной «с Запада» из сугубо конъюнктурных соображений — в Россию (тоже, конечно, не для «всех»). С начала 1990-х годов коммерциализированная эротика и разрушала, и обслуживала традиционные ценности. Экономический дискурс о сексе — в каком-то смысле нонсенс, но в то же время он не требует политической революции (по крайней мере, тут не усматривается никакого автоматизма). Поэтому многие конвенции остались нерушимыми для невестернизированных интеллектуалов, во всяком случае. Столь богатая — с точки зрения «советского человека» 1970–1980-х годов — дискуссиями о сексуальности эпоха 1900–1920-х годов, дискуссиями, которые не могут быть сведены к рубрикам «медицинский дискурс» или «юридический дискурс», оказывается идеальным объектом для истории российской «сексуальности». Поэтому аллергия или снисходительные насмешки отечественных историков звучат в данном случае резким диссонансом (даже с сугубо научной точки зрения). Но здесь и проявились слабость истории как автономной научно-гуманитарной дисциплины и известная идеологическая произвольность суждений «профессионалов».
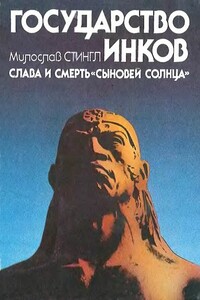
Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.

Боец легендарного 181-го отдельного разведотряда Северного флота Макар Бабиков в годы Великой Отечественной участвовал в самых рискованных рейдах и диверсионных операциях в тылу противника — разгроме немецких гарнизонов на берегах Баренцева моря, захвате артиллерийской батареи на мысе Крестовый и др., — а Золотой Звезды Героя был удостоен за отчаянный десант в южнокорейский город Сейсин в августе 1945 года, когда, высадившись с торпедных катеров, его взвод с боем захватил порт и стратегический мост и, несмотря на непрерывные контратаки японцев, почти сутки удерживал плацдарм до подхода главных сил.Эта книга вошла в золотой фонд мемуаров о Второй мировой войне.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.
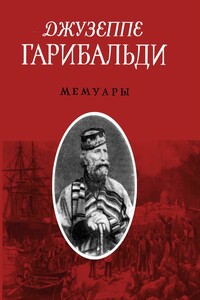
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.