Что там, в Зазеркалье? - [2]
И тогда вопрос перед вами встанет так: а что же это такое, это самое «одно и то же», выраженное один раз в виде «добра», другой раз — в образе «красоты», а третий раз — в форме «истины»?
Тогда, как подсказывает элементарная логика, вы обязаны будете ответить прежде всего на вопрос: что он такое, этот Икс, который, сам по себе не будучи ни тем, ни другим, ни третьим, вдруг предстает перед нами то в облике «красоты», то в образе «добра», то в костюме «истины»?
Кто он, этот таинственный незнакомец, появляющийся на маскараде истории то в одной, то в другой, то в третьей маске и никогда не являющийся на этот маскарад голеньким, неприкрытым, незамаскированным и незагримированным?
Каков он, этот «господин Икс», сам по себе, как он выглядит без той или другой из своих любимых масок?
Нам удастся подглядеть его подлинное лицо только в одном случае: если мы застанем его врасплох, в костюмерной, в тот момент, когда он переодевается, меняет одну маску на другую, одну снял, а другую надеть еще не успел.
Учтем, однако, что он не любит, когда за ним подсматривают в этот момент, и потому меняет одну маску на другую молниеносно — быстрее, чем Аркадий Райкин. Успеем мы в этот краткий миг сделать с него моментальный фотографический снимок — хорошо. Тогда мы будем иметь его портрет и не торопясь сможем его рассмотреть и исследовать. Тогда мы будем знать, каков он «сам по себе», «в себе и для себя», как любил говорить старик Гегель.
Но оказывается, что переодевание происходит в темноте и снимка нам сделать не удастся. А при свете «господин Икс» переодеваться не станет, подождет, пока свет погаснет. Значит, этот способ не подойдет. Значит, мы навсегда теряем надежду воочию разглядеть его подлинный облик. Значит, мы всегда будем видеть его то в маске ученого-схоласта, то в маске красавицы, то в маске добродетельного обличителя пороков, то в маске моралиста. [303]
И дело до чрезвычайности осложнится тем обстоятельством, что красавица эта вовсе не обязательно будет воплощенной добродетелью, а чаще, и даже как правило, — весьма порочной красавицей, которую как раз и будет обличать моралист, с коим эта красавица не хочет иметь дела и над которым она на сцене будет весьма зло издеваться, давая тем самым пищу для размышлений ученому-схоласту, наблюдающему со стороны за безуспешными попытками моралиста обратить эту красавицу на путь истинный, то есть завоевать ее сердце с целью вступить с ней в законный и навеки нерушимый брак…
Так что если мы попытаемся «логически реконструировать» подлинный облик «господина Икс», подмечая и фиксируя те общие черты, которые прослеживаются в манерах поведения всех трех персонажей, то мы быстро зайдем в тупик.
В самом деле, что можно увидеть общего между злой красавицей, некрасивым добром и безобразной истиной, которая только и старается быть ни «доброй», ни «злой», ни «красивой», ни «безобразной»?
Обычная логика, которая всегда старается образовать общее понятие из тех «признаков», которые одинаково общи каждому из рассматриваемых единичных экземпляров, то есть понимает «сущность вещей» как нечто абстрактно-общее каждой из этих вещей, рассматриваемых порознь, оказывается в данном случае (как и во многих других) абсолютно бессильной.
Ничего «общего» она установить не может по той простой причине, что такого «общего» тут и нет.
Такая логика хотя и допускает гипотезу, согласно которой за всеми тремя масками скрывается один и тот же актер, но признает себя бессильной — путем наблюдения за ними, путем установления «общего» для всех трех ролей — логически реконструировать «подлинный облик» актера.
По счастью, есть и другая логика. И эта логика видит простой и прямой выход, он же вход в решение загадки.
Состоит этот выход в том, что никакой загадочной фигуры «господина Икс», выступающей то в одной, то в другой, то в третьей маске, нет. А есть совершенно реальный, зримый и ничем не маскирующийся артист, которого мы все прекрасно знаем под другим именем, тот самый артист, который, совсем как Аркадий Райкин, [304] появляется на сцене в начале спектакля с переодеваниями и потом, скинув последнюю маску в конце спектакля, опять предстает перед нами таким же, как и в начале, только разве немного усталым. Четвертый — рядом с этими тремя — участник драмы.
И говорит: я-то и есть тот самый «господин Икс», насчет которого вы понастроили столько несуразных гипотез и про которого ходит столько таинственных слухов. Никакого «господина Икс» не было и нет. А есть я, всем вам прекрасно известный, популярный, знакомый человек, портреты которого рисуют чуть ли не на коробках с шоколадными конфетами.
Всем нам хорошо известный, конкретный человек. Человек с его сложной, трудной и противоречивой судьбой-историей — пьесой, которую он сам же исполняет, сочиняя по ходу действия, действуя по обстоятельствам, созданным вначале матушкой-природой, а потом, чем дальше, тем больше, — ходом своего же собственного действия.
Пьесу эту не назовешь ни трагедией, ни опереттой, ни трагикомедией, ни фарсом. Ибо в ней есть и то, и другое, и пятое, и десятое. Героический эпос перемежается в ней с фарсовыми куплетами, а мещанская драма — с кровавой трагедией. Отелло в этой пьесе ведет диалог не только с Яго или Дездемоной, а и с «Роз-Мари», Иван Сусанин вынужден то и дело петь трио вместе с цыганским бароном и Кармен.

На вопрос «Что на свете всего труднее?» поэт-мыслитель Гёте отвечал в стихах так: «Видеть своими глазами то, что лежит перед ними».Народное образование, 3 (1968), с. 33–42.
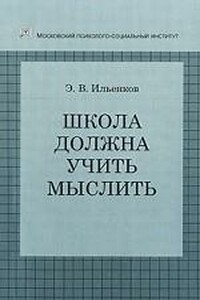
Как научить ребенка мыслить? Какова роль школы и учителя в этом процессе? Как формируются интеллектуальные, эстетические и иные способности человека? На эти и иные вопросы, которые и сегодня со всей остротой встают перед российской школой и учителями, отвечает выдающийся философ Эвальд Васильевич Ильенков (1924—1979).

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

Статья опубликована в книге "Наука и нравственность" (Москва, 1971) из серии "Над чем работают, о чем спорят философы".