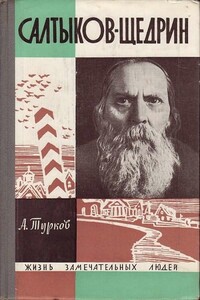Что было на веку... Странички воспоминаний - [3]
Десять лет я был там единственным ребенком. О.М. Старикова хотя и опередила тезку — мою мать, на четыре месяца раньше произведя на свет Катю, за которой через несколько лет последовали Алеша с Лелей, но жила уже в другом месте — неподалеку, в Малом Каковинском переулке. Я туда с малых лет постоянно хаживал, минуя исчезнувшую ныне Собачью площадку с крохотным сквером вокруг фонтанчика посередине.
Безотцовщину все жалели и баловали. И тут вспоминаются блоковские заметки о герое поэмы «Возмездие» (а, в сущности — о собственном детстве поэта): «И ребенка окружили всеми заботами, всем теплом, которое еще осталось в семье...». И далее: «Семья, идущая, как бы на убыль, старикам суждено окончить дни в глуши победоносцевского периода...».
Глушь победоносцевского периода... Всё так, но — «О, если б знали, дети, вы холод и мрак грядущих дней!» (все тот же Блок). — Аресты, расстрелы, ссылки, да и просто униженное, преследуемое положение «гнилой интеллигенции» (кстати, само-то презрительное словцо пущено из той самой «глуши», едва ли даже не лично Александром III), препоны дворянским детям в образовании (как в «глуши» — «кухаркиным детям»), с какими в особенности резко столкнулся Иван Михайлович Краевский, да и будущий академик Колюша не совсем их избежал...
Понятно, что в таких условиях «убыль» в человеческих душах, в отношениях между людьми, во внутрисемейной атмосфере росла катастрофически. Отголосок размышлений обо всем этом слышится в ранних стихах Павла Антокольского:
В тот год, когда Вселенную вселили
Насильно в тесноту жилых квартир,
Как жил ты? Сохранил ли память, или
Ее в тепло печурки превратил?
И все же в маленьком «дворянском гнезде» Серебряного переулка еще хватало тепла и друг для друга, и для нас, детей, и оно незаметно повседневно, буднично передавалось, как от бабушкиной руки, держащей на прогулке твою, маленькую.
В прикухонной комнатушке (прежде, вероятно, предназначавшейся для прислуги) доживала век моя прабабушка. Позже родственники, посмеиваясь, уверяли, что я был последней любовью Елизаветы Семеновны. Очень религиозная, привечавшая монашек, она и правнука старалась направить на путь истинный и даже немного в этом преуспела. Во всяком случае, я показывал на изображенного в книге: «А это Серафим Саровский...»
Однако прабабушка вскоре умерла, и на том, видимо, мое приобщение к религии закончилось. Никто из домашних его не возобновлял, хотя верующие среди них были. То ли решили, что не ко времени, то ли вообще не до этого было.
Вот, пожалуй, и первый «слом», выпадение из традиции, о котором писал Гершензон, пусть применительно совсем к другому поколению.
Мама работала фармацевтом в аптеке, и я целые дни проводил с бабушкой. Думаю, что вслед за исчезновением мужа появление у дочери «незаконнорожденного» ребенка было для бабы Юли, «бабули», новым ударом, усугубившим угрюмость ее характера. Характерно, что О.М. Старикова говорит, что никогда не слышала, чтобы она пела, как в молодые годы. Я, однако, помню ее напевающей за работой: «Выхожу один я на дорогу...».
Что-нибудь строча на машинке, она погружалась в задумчивость, так что порой отвечала на обращенные к ней вопросы совершенно невпопад. И два вечно дразнивших меня совсем молодых дядюшки Краевские однажды уверили меня, что она, когда шьет, на сковородке сидит. По их наущенью я в испуге спросил ее, верно ли это. «Да, да, Андрюшенька...», — послышалось в ответ сквозь стрекот «Зингера».
Этим же «суфлерам» был я обязан и тем, что, как гласит семейное предание, пришел на именины к раздражительному родственнику, мужу Элеоноры Ефимовны, и поздравил его стихами:
Мстислав Иваныч,
Снимай штаны на ночь,
А когда станешь вставать,
Не забудь надеть опять.
Бабуля очень меня любила, даже с избытком. К примеру, одеваться и обуваться сам я стал весьма не скоро. Она не только всячески обихаживала меня, но какое-то время читала мне вслух, несмотря на то, что я сравнительно рано овладел этим искусством.
Именно с бабушкой я помаленьку «обживал» Москву, ходил или ездил к многочисленной родне, обитавшей и в Хлебном переулке, и на Спиридоновке, и в Денежном, и в Луковом. Через Бородинский мост, чьи решетки привлекали меня изображенным там всевозможным старинным оружием, шли мы к уничтоженному впоследствии Дорогомиловскому кладбищу, где у входа высился пропеллер над могилой какого-то летчика. Там почти на самом берегу Москва-реки схоронили прабабушку Елизавету Семеновну. На другой стороне лежало большое поле, и я почему-то был уверен, что именно тут происходило Бородинское сражение.
Смутно помнится первое, сравнительно далекое путешествие в Калязин, где одно время жила Элеонора Ефимовна с вышеупомянутым Мстиславом Ивановичем, преподававшим в местном техникуме. Вечерами мы с ним ходили по большому залу: он, вечно хмурый, впереди, я — петушком сзади. Отрывочно возникают в памяти кусочки калязинских улиц, пригородный луг, волжский берег, крест заречного монастыря, куда мы ходили и, обернувшись на обратном пути, увидели яркое сверканье над лесом, уже скрывшим сам монастырь.
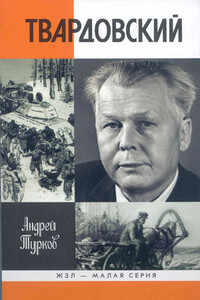
Андрей Турков, известный критик, литературовед, представляет на суд читателей одно из первых в новейшее время жизнеописаний Александра Твардовского (1910–1971), свою версию его судьбы, вокруг которой не утихают споры. Как поэт, автор знаменитого «Василия Тёркина», самого духоподъемного произведения военных лет, Твардовский — всенародно любим. Как многолетний глава «Нового мира», при котором журнал взял курс на критику сталинского руководства страной, обнажение всей «правды, сушей, как бы ни была горька» о коллективизации, репрессиях и о самой войне, публиковавший «неуставные» произведения В. Некрасова, В. Гроссмана, А. Солженицына (не обойдена в книге и сложность взаимоотношений последнего с Твардовским), — он до сих пор находится в центре горячих дискуссий.
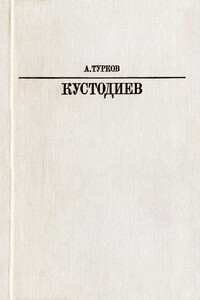
Книга А. М. Туркова — живой и непосредственный рассказ о нелегкой жизни и вдохновенном творчестве замечательного русского художника Бориса Михайловича Кустодиева, которому принадлежит особое место в отечественном искусстве первой трети XX века. Блестящий портретист и рисовальщик, он успешно выступал и как театральный художник, пробовал свои силы в скульптуре и линогравюре. Но наиболее глубоко его национальное дарование проявилось в особом, им самим созданном стиле — сказочно-нарядном, по-лубочному ярком изображении праздничных сторон жизни русской провинции — ярмарок, гуляний, маслениц…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жизнь А. Блока — одна из благороднейших страниц истории русской культуры. В книге рассматриваются основные вехи жизненного и творческого пути А. Блока, приведшего к созданию первой поэмы об Октябре — «Двенадцать».

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.
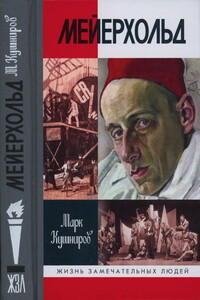
Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.