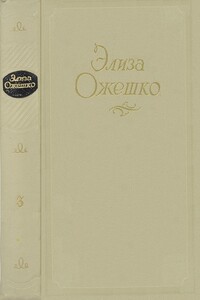В эту минуту дверь моей студии отворилась. Это Анджолита явилась позировать.
Генрих взглянул на нее и остолбенел.
— Ты с нее пишешь свою картину? — почти закричал он.
— Да, — ответил я, — а что?
— Да ведь это еще дитя! И ты взял ее в натурщицы? Ты учишь ее этому ужасному ремеслу? Господи! Да ведь ты честный человек?!
Я не успел ему ответить. Он схватил свою широкополую шляпу и ушел.
— Что с этим синьором? — спросила Анджолита.
Она не поняла ничего: мы говорили по-русски.
Я сердито ответил:
— Этот синьор просил у меня денег, а я сказал, что он не получит ни одного сольдо!..
* * *
Прошло две недели. Но теперь моя работа плохо подвигалась вперед, потому что Анджолита стала хандрить. У нее появилось выражение задумчивости, совершенно не подходившее к Джульетте. Болтливость с нее как будто соскочила. Я стал было ее расспрашивать, но ничего не добился.
Наконец, в один прекрасный день она не пришла. На следующий сеанс тоже не явилась, и я увидел ее только на четвертый день.
— Что с тобой сталось, Анджолита?
— Niente. Ничего. Я не могла.
Я заметил, что она за эти дни побледнела и осунулась. И руки у нее заметно дрожали, когда она стала расстегивать свой корсаж. И вдруг, представьте, она упала на кушетку, закрыла лицо руками и залилась слезами:
— Что такое?
— Я не могу больше! Это стыдно, стыдно!..
— Что стыдно, Madonna ti guardi? [8] Позировать?
— Да…
Я остолбенел.
— О, черт побери! — и меня осенила вздорная, но верная мысль: — Да уж не сошлась ли ты с тем синьором?
Она сразу перестала плакать и вскочила.
— Да это он мне объяснил. Вы солгали мне: тот синьор не просил у вас денег; синьор упрекал вас за ваши отношения ко мне, и вот почему вы так гневались!
— Побойся Бога, ciociarina, какие это «отношения»?!
Она опять заплакала.
— Это правда, что вы мне ничего дурного не сделали; я сама согласилась стать вашей натурщицей… Но ведь это ужасно! Я только теперь поняла, как это ужасно!
— Да где ты с ним встречалась?
Оказалось, что он назначал ей свидания в via Albani, где-то у черта на куличках.
Мне хотелось сказать ей: «Моя дорогая, почтенный синьор просто-напросто влюбился в тебя!» — но что-то непонятное удерживало меня. Однако эта история мне надоела: я не выношу женских слез. Я сказал ей:
— Знаешь, fanciulletta, я не могу принуждать тебя. Если ты не хочешь позировать, вот твой расчет, и ты свободна. А когда ты очнешься, приходи опять ко мне, и мы окончим нашу картину.
Я настолько хорошо знал этого веселого котенка, что был уверен в скоротечности такого «затмения». Но прошла целая неделя, и она не являлась.
Наконец — было это, как теперь помню, в четверг — я увидел ее снова. Я сидел в своей студии, смотрел на неоконченную картину и злился, что не могу дописать ее. Увидев Анджолиту, я радостно кинулся ей навстречу. Но ликовать было нечего.
— Я пришла к синьору, — заявила она мне почти с первого слова, — с великой просьбой. Я хочу… Я буду умолять его, чтобы он уничтожил эту бесстыдную картину — codesto quadro impudico!
Моя злость сразу вернулась.
— Ты с ума сошла? — раскричался я.
— Я не сошла с ума. Но я умоляю! Умоляю!..
Я холодно ответил:
— Ни за что.
Анджолита бросилась передо мной на колени. Но я уже не помнил себя от досады. Я схватил «Джульетту» с мольберта, запер ее в соседней комнате и ушел из студии, крикнув на прощанье:
— Скажи своему синьору, что он не только большой дурак, но и большой грешник!
Больше я уже не видел моей Анджолиты.
* * *
Через четыре дня ко мне пришла пожилая, но еще красивая чочара, мать девочки, и спросила, не видал ли я за последнее время ее дочери, которая куда-то исчезла. Я предложил ей тот же вопрос, и она ушла. А через полчаса я получил городское письмо, в котором прочел:
«Ради Бога! Ты не знаешь, где она? Генрих».
Прошел день.
Вечером дверь моей студии отворилась. Вошел Генрих.
Не снимая шляпы, он сел у стола, опустил голову на руки и словно задумался.
— Ну? — спросил я.
Он глухо ответил:
— Утопилась.
1898