Четыре рассказа - [26]
Они ушли со школьного двора; Баринов судорожно, ощупью пытался отыскать в себе поломку, которая на краткий строк наделила его беспощадным чужим зрением; чужим, но не чуждым, — это озадачивало ничуть не меньше. Шурша бумажными крыльями, прилетела фраза, давным-давно читанная в краснокожих дедовых фолиантах: шизофрения есть не расстройство интеллекта, но расстройство способности пользоваться интеллектом, и Баринов наспех проэкзаменовал себя, однако все окружающее сохранило прежние контуры и имена: осень была осенью, и женщина рядом была женщиной; ничто не указывало на причину сбоя, мир говорил привычным голосом, внятным и ровным, где не было ни боли, ни угрозы, и Баринов замер, настороженно прислушиваясь к работе механизмов внутри. Так продолжалось, пока Анна не указала на серую от времени брусовую избу, крытую новым рубероидом: а вот его дом, заходить не рекомендую, — и тогда перед глазами закачались высокие стебли крапивы и сумка доверху груженная хлебом больно резанула потную ладонь и на дороге по щиколотку в пыли пацаны собранные в круг считалкой в-на-шей ма-линь-кой из-буш-ки кто-то пер-нул как-из-пуш-ки лишь бы не заметили гады но гады заметили заметили считалка обрывается на полуслове ребя зырь фриц ползет круг рассыпается эршиссен и в спину летят камни и слова быстрее и тяжелее камней эй ты эсэс хенде хох фашист ебаный Гитлер капут бежать но поклажа тянет к земле хлебные кирпичи всеми углами бьют по ногам лишь бы крапивы не нарвали гады и радостное глумливое разноголосье сливается воедино не-миц пе-риц кал-ба-са! на-та-рел-ки ва-ла-са! ва-ла-са ше-ве-ля-цца! не-миц аба-се-ри-цца! мамка на счастье застряла жопой вверх на грядках а то опять лаяться начнет бросить сумку в сенях и забиться на чердак подальше от всех затеряться среди изувеченной утвари и разномастной рванины отдышаться возле полулунного слухового окна содрать с себя намертво прилипший барабанный ритм не-миц пе-риц тра-та-та сродни считалке про избушку тра-та-та-та… пердуны?.. и уже увереннее суки бляди пердуны обосрали все штаны и улыбка сквозь слезы сквозь частое сбитое дыхание — складно! — Баринов выволок себя из водоворота чужой памяти: виноват, не расслышал. Анна повторила: ну что, ко мне? Как угодно, сказал он, как угодно.
Первый позыв был немедленно попрощаться и уйти, укрыться в номере, но гостиничная дверь неважная защита от безумия, если это безумие, и уединение с самим собой не сулило умиротворения. Баринов пытался прочесть на известковом лице Анны отпечатки своих падений в никуда, но тонкие губы и парализованные глаза остались безучастны к нему, стало быть, не так все страшно.
Они шли рядом, почти касаясь друг друга плечами, но это не делало их ближе: между ними залегло стылое подземное молчание, оттого что апатичный ритуал вопросов и ответов был исчерпан, и оттого что чужая память обесцветила и обесценила и без того скудные слова, — а на те вопросы, которые Баринов задавал сам себе, заведомо нельзя было ответить словами.
В доме Анны пахло болотной сыростью, и Баринов понял: печка нетоплена, и понял: без нее топить некому, и сказал: вы, значит, одна живете? Одна, мать к отчиму в Серов перебралась, дом мне оставила. И не трудно одной? Ответ был предсказуем: по-другому — еще хуже, чаю хотите? Пожалуй, хочу. Сейчас, — Анна расстегнула ворот джинсовой рубашки; под горлом скользко блеснула серебряная монета с двуглавым орлом. Анна нашла на себе взгляд Баринова и объяснила: на иттерма должна быть монетка, иначе покойник станет злым духом; ее упрямое и наивное язычество уже не удивляло. Она взяла с книжной полки растрепанную тетрадь: вот, пожалуйста, а я чаем займусь.
Тетрадь населяли зубчатые строки, похожие на нервный и неровный след кардиографа; остроугольные литеры жили отдельно от клетчатых, в неопрятных пятнах, листов, переламывались и пульсировали. Одну из страниц наискось рассекала приписка, лишенная знаков препинания: тем хуже для куска дерева если он осознает себя скрипкой Рембо; «тем хуже» было подчеркнуто, жирно и дважды, и в конце нижней черты карандаш насквозь пропорол бумагу.
Анна на кухне гремела заслонкой, начиняя топку дровами. Баринов вернул тетрадь на место, перебрал книги на полке и вынул ту, что была в истертом матерчатом переплете, с оторванным корешком, и прочел на желтом титульном листе: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа и ниже: попечением Священного Синода, СПб, 1912. Наугад открыв страницу, Баринов вслепую провел по ней пальцем, — детская привычка гадать по старым книгам всегда была при нем, — и прочел: Я есмь воскресение и жизнь; вослед знакомым словам Иоанна нагрянули незнакомые и пугающие: но мыслимо ли воскресение без смерти? Чужое зрение вернулось обновленным, теперь невозможно было положить предел между ним и собой, потому что круглый стол у окна был столом, и окно в грязных потеках было окном, но книга упорно настаивала: мыслимо ли?.. Баринов поспешно пролистал ее от конца к началу и остановился на пятой главе Матфея, жестоко вцепившись глазами в Нагорную проповедь: прокляты нищие духом, ибо ничего не несут в мир, кроме собственного убожества; прокляты алчущие и жаждущие правды, ибо сегодняшняя правда завтра наречется ложью, а злодеяния во имя ее уже совершатся; прокляты кроткие, ибо только смирением прирастает беззаконие; блаженны воздающие кесарю кесарево, ибо все стремятся воздать кесарю Божье; блаженны дающие камень вместо хлеба, ибо вовек не познают неблагодарности; блаженны одинокие, ибо не вкусят ни унижений рабства, ни отравы господства; блаженны проклинающие, ибо немногое под солнцем достойно благословения…
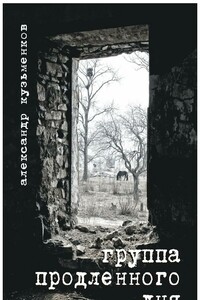
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.