Четыре рассказа - [25]
Средь темного леса червивым пеньком торчит узкоглазый кудесник. Христос ему по фиг, Перун не знаком: он инок торумов и крестник. Скажи мне, любимец замшелых богов… а впрочем молчи. Обойдемся без слов. Сквозь горький туман алатырской махры царапаешь взглядом дотошно. Ну что, изучил? Так сопи в две дыры, косой Нострадамус таежный. Ты, рума, таких не видал отродясь: чтоб сам себе мерин, и аспид, и князь. Подобный расклад — ты согласен, вогул? — прозрачней, чем водка в стакане, поэтому всуе тревожить тайгу ударами бубна не станем. Кой черт в беспонтовой твоей ворожбе? И так все понятно и мне, и тебе.
…а черновиков я у Виктора никогда не видела, писал сразу набело, без помарок, видимо, обдумывал подолгу. Если уж совсем переставало нравиться, вырывал страницу из тетради, в последний год только этим и занимался, перечитывал и рвал немилосердно, от девяноста шести листов половина осталась. День понемногу набирал силу, и небо, избавленное от снежного бремени, снова было высоким и бледным, и белая кисея на земле, устав притворяться зимой, распалась на лоскуты. Баринов попросил: можно рукопись посмотреть? и Анна отозвалась со сдержанным раздражением: что раньше-то не предупредили? она у меня дома, но немного погодя сказала примиренно: ладно, придется вас пригласить. Баринов вспомнил: вы говорили, он читал много, а что читал? Да все подряд, думаю, это у него с детства: куда идти-то, если дома плохо, на улице еще хуже? — летом в лес, зимой в библиотеку… сейчас налево и прямо, вот тут мы и жили.
Двухэтажные деревянные дома обступили их, как толпа калек на паперти, где убожество — знак отличия и сопричастности, где всякая хворь напоказ: и бельма полиэтиленовой пленки на выбитых окнах, и гнилые кости черных бревен в длинных продольных трещинах, и ревматические суставы заржавленных дверных петель. Во дворе обосновались помятые мусорные контейнеры, клейменные инвентарными номерами, дощатый сортир в облезлой скарлатинозной известке и хромые качели, — Баринов после двухлетних разъездов по губернии не удивлялся человеческой способности размножаться в любых условиях. Анна достала сигареты: загляните, если любопытно, пятая комната, я здесь подожду. Баринов толкнул дверь, обитую драным ватным одеялом.
В больном теле барака закономерно обосновался нездоровый дух мокрого белья, прогорклой пищи и помоев. Под потолком тлела лампочка, ее скаредного света хватало лишь на квадратный метр у входа. Тазы и рукомойники на стенах делали узкий коридор окончательно непроходимым, затоптанные половицы на каждый шаг отвечали досадливым ворчанием. Увернувшись от влажного лифчика, свисавшего с веревки, Баринов постучал в дверь с меловой цифрой «пять», и та приоткрылась. Комнату делили между собой печь из разобщенных кирпичей, кое-как скрепленных желтоватой побелкой, и древний диван, облаченный в заскорузлую клеенчатую кору; на нем лежала старуха, почти неотличимая от вытертой плюшевой жакетки, которой была укрыта. Старуха, разлепив коричневые веки, набрякшие тоской по медным пятакам, извлекла из горла длинный скрипучий выдох: это… кого? пожарники? Нет, ответил Баринов, и она заскрипела горестно и безадресно, подстать половицам в коридоре: Бог ты мой, батюшко-о, печки-то когда-а перелаживали, померзнем ведь…
Анна бросила окурок под ноги: как впечатление? Периферия вся одинакова, хошь «Терминатора» без декораций снимай, сказал Баринов; Анна явно не поняла вторую половину фразы, и он продолжил: там бабка каких-то пожарников требовала, — это о чем она? Анна растолковала: им недавно Госпожнадзор топить запретил, — печи аварийные, угроза возгорания, ну, куда теперь пойдем?
С утра Христос воистину воскресе. Но в каторжной гиперборейской веси всегда страстная пятница царит: железным терном всяк забор увит. С утра Христос — воистину? воскресе? Апрель портянкой небо занавесил и снежной перхотью присыпал грязь. Сосед бредет за водкой, матерясь. В помойке менструальная затычка — должно, заместо красного яичка, и у соседки осиянный вид: на кой ей третий, коли муж сидит? День вылеплен из глины диамата, но пасхой дурочка душа брюхата, и я опять ищу в стакане дно: авось, пресуществится в кровь вино. Да все черней в окне дыра пейзажа — наверно, туча иль на стеклах сажа. Портвейн — говно, и в комнате темно… Где жало твое, смерть? — да вот оно: где город распластался мертвой птицей, окутан неба серой плащаницей. И ангел воскресенья не трубит: он в дупель пьян, бескрылый инвалид.
…худой был, высокий, вечно горбился, — Анна запнулась, выбирая из реестра примет особые: ну, зубы выбиты, это я уже говорила, про татуировку тоже, руки и плечи все в шрамах. Я сперва решила, что вены вскрывал, — нет, от тоски резался, думал, полегчает… вот, пожалуйста, средняя школа номер пять.
Ребятня, подхваченная звонком, унеслась в классы, оставив на дворе ликующий и докучливый матерный визг; он без остатка растворился в прозрачном шелесте осени, и Анна сказала: все на своих местах, — вон кочегарка, вон дрова, и Баринов оседлал узловатый приземистый чурбан: здесь он сидел? Да, здесь, — голосу Анны пришлось добираться издалека потому что дневной свет иссяк сумерки скруглили изломы сгладили неровности и от поленницы уцелело темное ребристое пятно и черный квадрат школы вопреки канону насквозь прорезан прямоугольниками освещенных окон в соседнем доме окна жолты нет не жолты там перемигиваются елочные гирлянды и лабухи выворачивают наизнанку нутро магнитофона ка-ак прекра-аа-аа-сен этот ми-и-ир а с утра на линейке пацаны вразнобой ковыряли струны учитель нас проводит до угла и девки кобылы привязанные к белокочанным бантам выкатывали крупнокалиберные цыцки из кружевных передников такой же разнобой дурного свойства сусальная умиленным родителям на забаву игра переростков в детство и первоклассница приделанная к радостной и бессмысленной улыбке наотмашь трясла коровьим боталом и дядя Яша тряс неструганными виршами своеручной работы ты! уходя! в счастливый! путь! родную! школу! не забудь! ага счастливый счастья там для вас целая помойка заготовлена всем хватит и лабухи нудно размазывают сироп и патоку посмотри-и-и вот лет через пять и посмотрим как этих нищих провели смех и грех но табачный дым царапает режет гортань и приторная музыка петляет путается в собственных извивах рушится навзничь и ноет ноет навзрыд панихидой в путь узкий ходшие прискорбный вси житие яко ярем вземшие и не удержать чинарь в прыгающих пальцах и не удержать в груди хриплый лающий не то кашель не то плач ебаный в рот да что же это? и твердые холодные ладони гладят виски и затылок и рядом дрожь перепуганного тела и дрожь выщербленного боязнью голоса не надо я тоже за-запла-чу-у и слезы на щеках перемешиваются с чужими и губы перемешиваются с чужими неловкими но настойчивыми солеными от слез — Баринов, пробившись к себе сквозь густые потемки наваждения, недоуменно посмотрел на переломленную сигарету в руке и зачем-то спросил: школа малокомплектная?
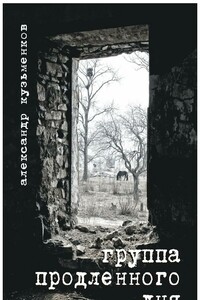
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.