Чертухинский балакирь - [51]
По стенам угодники разные из каждой, кажется, щелки глядят, большие и маленькие, в окладах и голенькие, в одной власянице и рясе, одни сугорбившиеся на иконной доске с поджатыми старостью кверху плечами, другие во весь рост и силу, с крепкими и молодыми ликами, с усиками, как у чертухинских парней в жениховую пору, и с такими же игривыми колечками и завитушками надо лбом. Уставились они пристально на Петра Кирилыча и будто пристально его разглядывают.
"Ишь, тут как все вроде как по-другому, чем у попа Миколая, - думает Петр Кирилыч, оглядывая вокруг темные торжественно-прокоптелые лики, -святые-то у него как родня какая!.."
Стоят, рукой подать от Петра Кирилыча, четыре евангелиста с большими книгами в руках, во весь рост, глаза светом исходят, венцы огнем пышат; справа от алтаря Микола, оклад на Миколе толстенный и весь в камушках, как в заводине дубенский берег усыпан, вроде как с лика смахивает немного на чертухинского старосту Никиту Родионова, строг тоже по всему, а мужик ничего себе, не вредный и веселый; рядом с ним то ли Иван-воин стоит, то ли Павел Безрукий с рогатиной, лик заспанный, ленивый и дремный, как весь наш чертухинский лес. Куда ни посмотришь, куда ни поглядишь, отовсюду глянет святой и то кольчугой разузоренной блеснет в синем полумраке, спадающей с плеч до самых коленок, то ризой в глаза ударит, инда посьшлются от цветов и красок из глаз тоже разноцветные искры. Видится Петру Кирилычу в этой иконной толпе вытянутая, как на мирской сходке, через плечи мироедов и заправил чертухинских робкая голова брата Акима и, поглядеть если пристально, благоверная Анна, в памерках свечей лампад приставшая боком к другим, как часто на иконах рисуют малоискусные богомазы, думая на одной доске побольше святых уместить, исподлобья смотрит на Петра Кирилыча и, ни дать ни взять, совсем как невестка Мавра.
Да и сам Спиридон Емельяныч похож теперь в своей неподвижности перед алтарным входом на какую-то большую икону, вроде тех чудотворных, которые в коровий мор годов десять тому назад возили по нашей округе. Лик у него обращен прямо в седьмое небо и человеку незрим, к земле же - одна спина и затылок, на котором четко лежит масляным кружком мужицкая скобка. Только у какого святого были такие широкие плечи? Уж больно был Спиридон Емельяныч широк, кажись, не писал еще ни один богомаз такой иконы, на которой бы мог при искусстве уместить всю эту силищу!
- Миром с миром… осподу помолимся! - вдруг прогудело по моленной, и в разных углах отдалось: "Оспу помомся, оспу помомся!"
Петр Кирилыч одернулся в своей задумчивости и положил за Машей вслед прямо Спиридону Емельянычу в спину первый столоверский поклон. Риза на Спиридоне широченная, цветами с луга райского вышита, лучами с зари утренней унизана, так золотым колесом и обкатилась вокруг всей его грузной фигуры, розданной далеко в стороны, нарукавники золоченые, передник золотой, до полу, кисточками лежит на половице. Как и у настоящего попа - вся сряда, и не дешевого сорту, и все от этого ризного золота зноится вокруг еще больше и еще быстрее плывет, как недовиденный сон, растекаясь в призрачное, еле различимое марево.
"Миром с… миром! - думает Петр Кирилыч про себя. - Мир - первое дело… потому вера - мир!.."
- Оспу помомся! - протекло опять из-под ризы.
Спиридон вместе с возглашением тихо, неторопливо склонялся в поклон перед алтарем, и последние звуки шли откуда-то сбоку его растопыренной в стороны ризы, словно столетний дуб по осени на бурном неперестающем запредельном ветру сгибался тяжкой спиной, пока ветки не достанут земли, также медленно потом расправляясь и уходя кудлатой головой в седьмое, самое синее небо.
Каждый раз Спиридон в поясном поклоне рукой касался земли, как это делают от важности молодые соборные протопопы, когда надо бы по чину земно бухнуть на оба колена. Спиридон же думал лучше переложить в молитве, чем не доложить: не долг соседу платишь, когда молишься богу. Хорошо он разглядел за свою странничью жизнь с братом Андреем церковную богопоставность и чин: как и где надо перед образом встать и как повернуться, и теперь ото всей неутолимой и жадной на бога души вершит свою мужицкую требу.
Маша тоже не спустит глаз с отца, руки у нее сложены крест-накрест на чахлой груди - у столоверов нельзя во время молитвы в карманах щупать, -губы чуть приоткрыты, видно, что повторяет за отцом неслышно каждое слово, и на лбу чуть заметными бисеринками выступил пот, должно быть, от жаркой молитвы и от непрошедшего еще страха перед отцом.
Кажется Маша Петру Кирилычу в этом сиянье лампад и свечей с каждой минутой все ближе и роднее, словно сколько уж годов вот он так с ней простоял здесь за широкой спиной Спиридона; изредка взглянет он на нее вбочок вполглаза и диву сам дастся:
"За что, спрашивается после этого, захаяли девку?"
Кажется она ему теперь в белом своем платочке на небольшой аккуратной головке и в этом синем Феклушином сарафане столь прекрасной и какой-то незримой, на глаз нелегко дающейся красотой; тонко под матовой бледностью разлит у Маши по щекам еле уловимый румянец, и даже ямки, кажется, тоже проступили чуть-чуть, как у Феклуши, около шепчущих губ. Если бы не Спиридон Емельяныч и не эти святые, которые изо всех углов уставились на Петра Кирилыча и Машу, сгреб бы ее Петр Кирилыч в охапку, как у оврага, и впился бы в горячие, воспаленные губы. Правда, что девка не больно товарна - грудь по-прежнему падает бессильная вниз, без малого какого овала и круглости у подбородка, опущенного перед поклоном… Ништо: на костях мясо слаще… и меньше ситцу пойдет… Зато так сини, так светлы у Маши глаза за большими ресницами, поводочными и влажными, и если взглянуть в них сбоку, то горит у Маши в глазах еще больше лампад, чем сейчас в молельне перед образами.
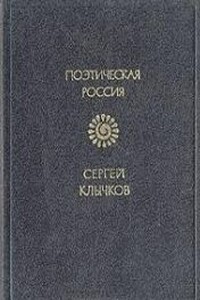
С каждым годом творчество Сергея Клычкова завоевывает все большее признание читателей. После выпуска первых поэтических сборников «Песни» (1911) и «Потаенный сад» он примыкает к новокрестьянскому направлению, во главе которого были Н. Клюев и С. Есенин. С большим мастерством Клычков разрабатывал мотивы русской песни и сказки. В 1937 году он был незаконно репрессирован, и его самобытная поэзия и проза на многие десятилетия были преданы забвению. В настоящую книгу вошло лучшее из поэтического наследия С. Клычкова.

Проза русского советского писателя С. А. Клычкова (1889- 1940) связана с гоголевской традицией совмещения реального и фантастического планов - это создает в романах "Сахарный немец", "Князь мира" и др. атмосферу гротескно-сказочного быта, в котором действуют его излюбленные герои - одинокие мечтатели, чудаки, правдоискатели.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Проза русского советского писателя С. А. Клычкова (1889- 1940) связана с гоголевской традицией совмещения реального и фантастического планов - это создает в романах "Сахарный немец", "Князь мира" и др. атмосферу гротескно-сказочного быта, в котором действуют его излюбленные герои - одинокие мечтатели, чудаки, правдоискатели.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».