Черный - [16]
Средневековое христианство, не подвергая сомнению всемогущество Бога, все же признает существование некоей злой силы, которая, не будучи равной Богу, располагает большой свободой действий: имя ей Сатана. Это имя впервые упоминается в Ветхом Завете. Оно происходит от древнееврейского слова, означающего «противник в споре»: так в Книге Иова называется ангел, который должен искушать героя, дабы испытать его твердость в вере[59]. Это у Отцов Церкви слово «сатана» превратилось в имя собственное, имя вождя мятежных ангелов, восставшего против Бога и воплотившего в себе силы Зла. Сатана – термин редкий, понятный только ученым; в феодальную эпоху в текстах, написанных на латыни, а позднее на местных языках, гораздо чаще встречается слово «Дьявол» (diabolus). Это слово греческого происхождения (diabolos); и перед тем, как стать существительным, оно долгое время было прилагательным. На древнегреческом языке оно означало «тот, кто сеет ненависть, раздор, зависть», а в широком смысле – обманщик или клеветник. Самые ранние изображения Дьявола в европейском искусстве навеяны древнегреческой иконографией сатира: мохнатые уши, маленькие, как у фавна, рожки, козлиные ноги и хвост; позже ему пририсуют крылья (ведь это падший ангел), затем сделают заметнее все черты, что роднят его с животными.
Дьявол почти не появляется в изобразительном искусстве и на иных изображениях до VI века, а до конца каролингской эпохи появляется достаточно редко. Однако романский стиль выдвигает его на первый план: с середины XI века его фигура встречается почти так же часто, как фигура Христа. Впрочем, он появляется не один, а с целой свитой демонов, чудовищ и животных темного цвета, словно вынырнувших из адской бездны, чтобы прельщать или мучить людей. Люди, слабые и грешные создания, повсюду видят вырастающую перед ними фигуру Дьявола, особенно в скульптурном убранстве церквей, где Сатана и его приспешники должны постоянно напоминать им об угрозе вечных мук. Тему Страшного суда, о котором неоднократно упоминается в Библии, западноевропейское искусство откроет для себя еще в каролингскую эпоху. Но свою классическую форму этот сюжет обретет в романской скульптуре, на тимпанах больших храмов: там изображен Христос, восседающий, как судия; архангел Михаил отделяет праведников от грешников, подсчитывая их добрые и злые дела. Архангел взвешивает души на весах, показания которых демон мошенническим образом пытается изменить в свою пользу. С правой стороны от Христа праведники в длинных одеяниях, ведомые ангелами, направляются в Рай, где их встречают либо Авраам и другие праотцы, либо апостол Петр – его можно узнать по громадному ключу. С левой стороны ухмыляющиеся, гримасничающие демоны низвергают в ад нагих, обезумевших от ужаса грешников. Сегодня на этих скульптурных группах (в Отене, Конке, Везле, Болье и других) мы не видим красок, которые некогда играли очень важную роль как в выстраивании самого образа, так и в раскрытии его значения. Но среди этого многоцветья резко выделялся черный: ведь он был необходим для изображения Дьявола и его приспешников.
В книжной миниатюре, как и в скульптуре, ад изображается в виде пасти гигантского чудовища, откуда вырываются языки пламени, а в глубине видна пылающая печь; демоны с вилами в руках подталкивают грешников к печи, при этом подвергая их гнусным и жестоким истязаниям. Эта пасть напоминает о пасти чудовища Левиафана, о которой идет речь в книге Иова (XLI, 11), однако сама картина ада со сценами садистских пыток во многом восходит к апокрифическим текстам Нового Завета и к комментариям Отцов Церкви. Для этих последних ад – одновременно бездна, находящаяся в центре земли, царство тьмы и океан огня. Это копия рая, только с обратным знаком: печь, истязания и тьма на одной стороне, прохлада, блаженство и свет – на другой. Адское пламя – особое пламя, которое сжигает, но не дает света; его задача – не уничтожать тела грешников, а, подобно соли, сохранять их, чтобы они испытывали вечные муки[60].
По мнению виднейших богословов, ад как неизбежный удел грешного человечества – не реальная перспектива, а всего лишь предупреждение, которое должно заставить людей покаяться и найти путь ко Христу, дабы не умереть в смертном грехе. Самое страшное наказание, уготованное закоснелым грешникам в аду, – лишение созерцания Божия; к этому добавляются различные моральные страдания, такие как отчаяние, угрызения совести, мучительная зависть при виде праведников, пребывающих в раю. По поводу физических наказаний, то есть связанных с ощущениями, богословы высказываются с меньшей определенностью: огонь, холод, мрак, гул, томление. Череда ужасающих пыток, запечатленная сначала на фресках, позднее на тимпанах и капителях колонн и наконец на витражах и миниатюрах, – это продукт творчества нескольких писателей и множества художников романской эпохи, наделенных богатым воображением. Со временем богословы выдвигают идею, что каждому типу греха должен соответствовать свой тип наказания: это позволит создавать изображения, которые послужат моральным уроком. Когда к началу XIII века получит свою окончательную форму тезис о семи смертных грехах, каждый из них начнут ассоциировать с определенным цветом: гордыню и прелюбодеяние – с красным, зависть – с желтым, чревоугодие – с зеленым, леность – с белым, гневливость и скупость – с черным
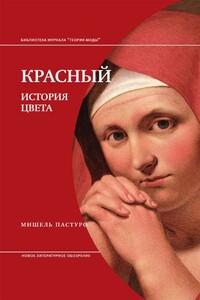
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Французский историк Мишель Пастуро продолжает свой масштабный проект, посвященный истории цвета в западноевропейских обществах от Древнего Рима до наших дней. В издательстве «НЛО» уже выходили книги «Синий», «Черный», «Красный» и «Зеленый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Новая книга посвящена желтому цвету, который мало присутствует в повседневной жизни современной Европы и скудно представлен в официальной символике. Однако так было не всегда. Люди прошлого видели в нем священный цвет – цвет света, тепла, богатства и процветания.
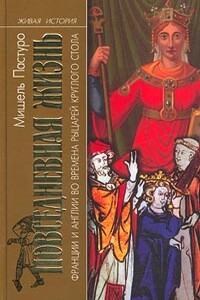
Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.

Ни для кого не секрет, что современные СМИ оказывают значительное влияние на политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь общества. Но можем ли мы безоговорочно им доверять в эпоху постправды и фейковых новостей?Сергей Ильченко — доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ, автор и ведущий многочисленных теле- и радиопрограмм — настойчиво и последовательно борется с фейковой журналистикой. Автор ярко, конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных СМИ, раскрывает приемы, при помощи которых нас вводят в заблуждение и навязывают «правильный» взгляд на современные события и на исторические факты.Помимо того что вы познакомитесь с основными приемами манипуляции, пропаганды и рекламы, научитесь отличать праву от вымысла, вы узнаете, как вводят в заблуждение читателей, телезрителей и даже радиослушателей.
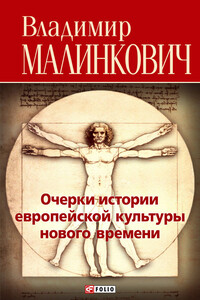
Книга известного политолога и публициста Владимира Малинковича посвящена сложным проблемам развития культуры в Европе Нового времени. Речь идет, в первую очередь, о тех противоречивых тенденциях в истории европейских народов, которые вызваны сложностью поисков необходимого равновесия между процессами духовной и материальной жизни человека и общества. Главы книги посвящены проблемам гуманизма Ренессанса, культурному хаосу эпохи барокко, противоречиям того пути, который был предложен просветителями, творчеству Гоголя, европейскому декадансу, пессиместическим настроениям Антона Чехова, наконец, майскому, 1968 года, бунту французской молодежи против общества потребления.
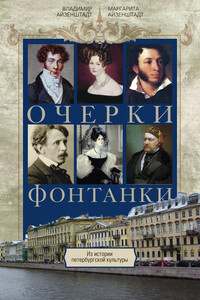
По прошествии пяти лет после выхода предыдущей книги «По Фонтанке. Страницы истории петербургской культуры» мы предлагаем читателям продолжение наших прогулок по Фонтанке и близлежащим ее окрестностям. Герои книги – люди, оставившие яркий след в культурной истории нашей страны: Константин Батюшков, княгиня Зинаида Александровна Волконская, Александр Пушкин, Михаил Глинка, великая княгиня Елена Павловна, Александр Бородин, Микалоюс Чюрлёнис. Каждому из них посвящен отдельный очерк, рассказывающий и о самом персонаже, и о культурной среде, складывающейся вокруг него, и о происходящих событиях.
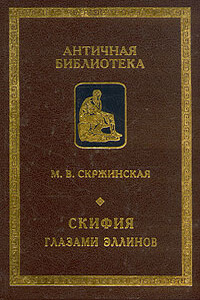
Произведения античных писателей, открывающие начальные страницы отечественной истории, впервые рассмотрены в сочетании с памятниками изобразительного искусства VI-IV вв. до нашей эры. Собранные воедино, систематизированные и исследованные автором свидетельства великих греческих историков (Геродот), драматургов (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан), ораторов (Исократ,Демосфен, Эсхин) и других великих представителей Древней Греции дают возможность воссоздать историю и культуру, этногеографию и фольклор, нравы и обычаи народов, населявших Восточную Европу, которую эллины называли Скифией.
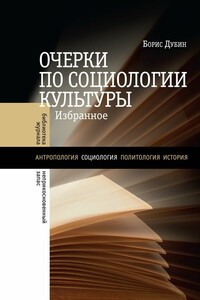
Сборник статей социолога культуры, литературного критика и переводчика Б. В. Дубина (1946–2014) содержит наиболее яркие его работы. Автор рассматривает такие актуальные темы, как соотношение классики, массовой словесности и авангарда, литература как социальный институт (книгоиздание, библиотеки, премии, цензура и т. д.), «формульная» литература (исторический роман, боевик, фантастика, любовный роман), биография как литературная конструкция, идеология литературы, различные коммуникационные системы (телевидение, театр, музей, слухи, спорт) и т. д.
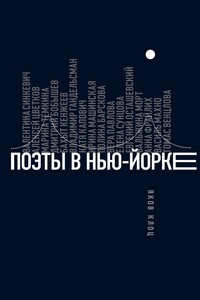
В книге собраны беседы с поэтами из России и Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина), работающими в Нью-Йорке и на его литературной орбите, о диаспоре, эмиграции и ее «волнах», родном и неродном языках, архитектуре и урбанизме, пересечении географических, политических и семиотических границ, точках отталкивания и притяжения между разными поколениями литературных диаспор конца XX – начала XXI в. «Общим местом» бесед служит Нью-Йорк, его городской, литературный и мифологический ландшафт, рассматриваемый сквозь призму языка и поэтических традиций и сопоставляемый с другими центрами русской и восточноевропейской культур в диаспоре и в метрополии.
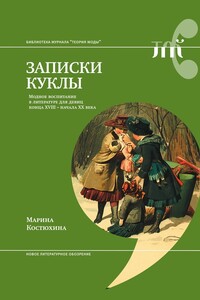
Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.