Чернозёмные поля - [17]
— Хорошо, Силай Кузьмич, если вы говорите, что нельзя без закладной, я согласна… По рукам! — сказала она в приливе решительности.
Татьяна Сергеевна положила свою пухлую белую ручку на корявую, как сапожная подмётка, руку Лаптева. Ей казалось при этом, что она умеет необыкновенно хорошо обращаться с простыми людьми и знакома со всеми уловками торговой практики.
— Закладную и неустоичную запись на шесть тысяч рублей, — пояснял между тем Силай Кузьмич, держа в своей грязной лапе руку генеральши.
— Какую это неустоичную запись? — с смутным замиранием сердца спросила Татьяна Сергеевна.
— А это уж всегда так, по закону! Коли закладная, так и неустоичная запись. Без того нельзя. Это только пишется так, для острастки. На год, мол, берёшь, отдавай через год, не зевай.
— Ну, ну, делайте, как знаете, Силай Кузьмич, я объявила вам, что не знаю ваших канцелярских тонкостей, — с неудовольствием ответила генеральша, полагавшая, что с её стороны должно быть больше великодушия и доверчивости, чем со стороны этого грубого мужика. — Я верю вам, как доброму соседу, и надеюсь, что вы не захотите без нужды стеснять меня.
— Зачем притеснять? Дело соседское. Плати себе исправно проценты, мне и горюшки мало! Хоть сто лет держи.
— Ах да, а какой процент? — спохватилась вдруг Татьяна Сергеевна так торопливо и тревожно, что даже Силай Кузьмич ухмыльнулся.
— У меня, барыня, положенный процент, как в казне. Рубль в месяц с сотни — вот и всё! Я ведь не то, что ростовщик какой, не из нужды даю, а по знакомству, для хорошего человека.
— Это сколько же в год выходит с шести тысяч? — совершенно смутившись, спрашивала генеральша.
— Не много выходит, деньги не велики, только семьсот двадцать рублёв. Только ты уж, матушка, в закладную пиши побольше земли; тебе ведь всё равно, а мне-то покойнее… Ровно у тебя пустошь есть, как раз к моей меже; там, должно, двести пятьдесят, не то триста десятин, не упомню; ты и помести её в закладную. Волковка, кажется, прозывается?
— Ах, это где берёзовый лес? — вскрикнула со страхом Татьяна Сергеевна.
— Да, кажись, там есть лесишко, — говорил словно нехотя, Лаптев. — Так себе, дрянненький, кое на кол, кое на слегу вышел, бревна-то, пожалуй что, и не выберешь, слава только, что лес! Весь дровяной.
— Помилуйте, Силай Кузьмич, я хорошо помню свою Волковку, — горячилась генеральша. — Это всегда был мой любимый лес. Бывало, мы там чай пили при покойном муже, когда ещё была пасека. Там прекрасный, очень толстый лес, и его очень много.
— Да нешто я его съем, твой лес-то? — захихикал Силай Кузьмич шутливым тоном. — Эх, барынька, барынька бедовая! Право, с тобой горе… Лес весь твой останется, много ли его там, или мало, я его не угрызу… Не в продажу идёт, слава Богу, а в закладную; что ни напиши, оттого не убудет. Поладили, что ли?
Силай Кузьмич попытался встать.
— Ну, Бог с вами совсем, скупой сосед! — шутила генеральша, не любившая долго оставаться под гнётом сомнений и опасений. — Авось Бог милостив, мы с вами не перекусаемся из-за этих несчастных шести тысяч. Вот разживусь со своего нового хозяйства, сама вам взаймы буду давать… и уж без всяких процентов! — любезно добавила Татьяна Сергеевна.
— Пошли Бог, пошли Бог, — машинально твердил Силай Кузьмич, отыскивая шапку.
— Нет, этак уж не по-русски, не по христианскому обычаю, — заговорила Татьяна Сергеевна, вся ожившая после окончания всегда тяжёлого для неё делового разговора. — Надо соседского хлеба-соли откушать.
— На том спасибо, матушка, а только не время, человек нужный ждёт, заезжий.
— Ну, хоть закусите что-нибудь, рюмку водки выпейте.
Татьяна Сергеевна позвала человека. Силай Кузьмич видел, что дело было улажено, а после дела он не прочь был покалякать о разном вздоре, которого не любил припутывать не к месту. Весь разговор господ, который ему часто приходилось слышать, толки об обществе, о политике и даже о хозяйстве, он относил к этому вздору, потому что из него не выходило ровно ничего. Беседа за чаем в трактире с московским купцом, приехавшим закупить крупчатку, воловьи кожи или пеньку, — это была другая статья для Силая Кузьмича. Он не жалет просидеть за такою болтовнёю часа два лишних, потому что от этого лишнего часика могла зависеть лишняя копеечка, а то и две на пуд.
— Важные шпалерцы! — говорил теперь Силай Кузьмич, неуклюже расхаживая по коврам гостиной и без церемонии оглядывая стены, потолки и мебель. — Небойсь всё из Петербурга навезла! Почём брала?
— Право, не помню, добрейший сосед… Я на это глупая, сейчас забуду, — улыбалась генеральша.
Силай Кузьмич между тем мазал пятернёю по медальонам французских обоев самой нежной краски.
— Ишь ведь, дошли! — покачивал он головою. — Я вот тоже горницы четыре бумажками обклеил, так те не подойдут… Дюже малёваны и чистоты такой нет… потому что нашего российского изделья.
Лидочка вошла в комнату, причёсанная и прибранная.
— Вот дочь моя, Силай Кузьмич, тоже соседка ваша. Лиди, это Силай Кузьмич Лаптев, знаешь, наш сосед в Прилепах.
Силай Кузьмич осклабился всем своим червивым зевом, когда увидел неожиданно вошедшую Лидочку. Даже у этого толстокожего корявого зверя невольно взыграло сердце при виде молодой, только что распустившейся красоты.

За годы своей деятельности Е.Л. Марков изучил все уголки Крыма, его историческое прошлое. Книга, написанная увлеченным, знающим человеком и выдержавшая при жизни автора 4 издания, не утратила своей литературной и художественной ценности и в наши дни.Для историков, этнографов, краеведов и всех, интересующихся прошлым Крыма.

Воспоминания детства писателя девятнадцатого века Евгения Львовича Маркова примыкают к книгам о своём детстве Льва Толстого, Сергея Аксакова, Николая Гарина-Михайловского, Александры Бруштейн, Владимира Набокова.

Воспоминания детства писателя девятнадцатого века Евгения Львовича Маркова примыкают к книгам о своём детстве Льва Толстого, Сергея Аксакова, Николая Гарина-Михайловского, Александры Бруштейн, Владимира Набокова.

Евгений Львович Марков (1835–1903) — ныне забытый литератор; между тем его проза и публицистика, а более всего — его критические статьи имели успех и оставили след в сочинениях Льва Толстого и Достоевского.
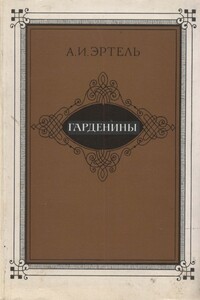
А. И. Эртель (1885–1908) — русский писатель-демократ, просветитель. В его лучшем романе «Гарденины» дана широкая картина жизни России восьмидесятых годов XIX века, показана смена крепостнической общественной формации капиталистическим укладом жизни, ломка нравственно-психологического мира людей переходной эпохи. «Неподражаемое, не встречаемое нигде достоинство этого романа, это удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у новых, ни у старых писателей». Лев Толстой, 1908. «„Гарденины“ — один из лучших русских романов, написанных после эпохи великих романистов» Д.
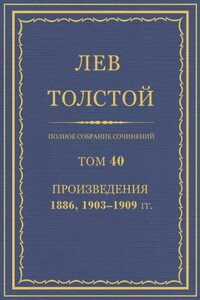
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга впервые за долгие годы знакомит широкий круг читателей с изящной и нашумевшей в свое время научно-фантастической мистификацией В. Ф. Одоевского «Зефироты» (1861), а также дополнительными материалами. В сопроводительной статье прослеживается история и отголоски мистификации Одоевского, которая рассматривается в связи с литературным и событийным контекстом эпохи.
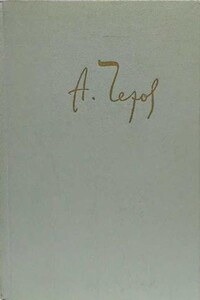
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге представлено весьма актуальное во времена пандемии произведение популярного в народе писателя и корреспондента Пушкина А. А. Орлова (1790/91-1840) «Встреча чумы с холерою, или Внезапное уничтожение замыслов человеческих», впервые увидевшее свет в 1830 г.