Черная речка. До и после - К истории дуэли Пушкина - [4]
Как теперь ясно, между этими двумя письмами было ещё одно: от 2 февраля 1836 года. Оно вводит весьма существенный мотив во всю историю отношений Дантеса и Наталии Николаевны: мотив готовности молодого француза, действительной или мнимой, следовать советам своего старшего друга. «Я последую твоим советам, ведь ты мой друг, и я хотел бы излечиться к твоему возвращению и не думать ни о чём, кроме счастья видеть тебя и радоваться тому, что мы вместе».
Как свидетельствует С. Витале, Анри Труайя получил от правнука Дантеса полный текст двух писем, но напечатал только их фрагменты, к тому же с ошибками, породившими много нелепых толкований. Н. А. Раевский в книге «Портреты заговорили» писал, к примеру, что «виновность Натали после публикации двух писем Дантеса доказана бесспорно». В свою очередь, И. М. Ободовская и М. А. Дементьев даже подвергли сомнению подлинность писем: «Можно предположить, что письма Дантеса написаны много лет позднее и оставлены им среди бумаг „для оправдания потомством"» (Ободовская И. М., Дементьев М. А. Вокруг Пушкина. М., 1978. С. 111. Далее — Вокруг Пушкина). Подобные заключения сродни широко распространённому мифу о кольчуге Дантеса и разве что указывают на отсутствие у их авторов каких бы то ни было представлений о кодексе дворянской чести. Семён Ласкин, автор книги «Вокруг дуэли», несмотря на то, что видел эти письма в архиве барона Клода де Геккерена, на основании знакомства с фрагментами двух из них высказал совсем уже странное соображение о том, что предметом страсти Дантеса была вовсе не Наталия Николаевна, а Идалия Полетика.
В своё время никому не известный Николай Маркович Колмаков, студент Петербургского университета, встретив Пушкина на Невском проспекте, обратил внимание на отсутствие пуговицы на бекеше поэта. Из этого он сделал глубокомысленный вывод о том, что «около него не было ухода». Недостающая пуговица явилась символом такого рода поверхностных суждений. Из-за отсутствия документов и писем, а также в силу полярных пристрастий пушкинисты стремились обелить или, наоборот, очернить жену поэта. Всё это сказалось при оценке тех фрагментов, которые опубликовал в своё время Анри Труайя. Только доступ ко всем письмам, хранящимся у потомков Дантеса, дал возможность со всею полнотою проанализировать как тексты писем, так и уточнённые теперь факты, касающиеся последних лет жизни поэта.
Перевод писем на русский оказался затруднён в связи с тем, что язык оригинала сбивчив, подчас бессвязен и далёк от литературной грамотности. Ради выявления смысла переводчик вынужден был иногда отходить от скрупулезной идентичности. Однако чрезмерное выглаживание авторской стилистики мы сочли неоправданным.
Общее число писем Дантеса к Геккерену — двадцать пять. Первое помечено 18-м мая 1835 года, последнее даты не имеет, но датируется нами 6-м ноября 1836 года исходя из сопоставления контекста письма с известными событийными вехами тех дней.
Первое из писем написано вскоре после отъезда Геккерена из Петербурга и представляет собою ответ на письмо посланника Дантесу. Посвящённое прежде всего воспоминанию о проводах Геккерена до Кронштадта и собственному возвращению обратно в Петербург, это письмо задаёт общий и в дальнейшем неизменный тон остальным письмам. Уверения в преданности и любви к Геккерену, выражения благодарности за сделанные им подарки перемежаются светскими сплетнями, полковыми новостями, в которых особое место занимают заботы и связанные с ними волнения по поводу собственной карьеры. Ни единого раза не идёт речь о какой-нибудь прочитанной книге, нет упоминаний и о театральных постановках, а имена актёров французской труппы всплывают в письмах только в связи с театральными скандалами и сплетнями. Ими в полной мере кормит Дантес своего приёмного отца.
Письма вносят дополнительные штрихи в психологический портрет Дантеса, который сложился у нас на основании всех ранее известных фактов и мемуарных свидетельств. Для нас в этих письмах ценно прежде всего то, что они обращены к человеку, с которым Дантес вполне откровенен. Маска светских условностей сброшена, он не встаёт ни в одну из тех поз, которые демонстрирует на людях. Не снимается только одна маска — признательного и любящего друга.
Главной заботой Дантеса является, несомненно, карьера — ей подчинено всё. О каких бы скандальных происшествиях в Петербурге ни сообщал он своему приёмному отцу, он с удовлетворением отмечает свою непричастность к ним и тем самым отсутствие пагубных последствий на служебном поприще. Так в письме от 1 сентября 1835 года, поведав Геккерену об очередной выходке своих однополчан-кавалергардов, он замечает: «…я определённо не хотел бы оказаться на их месте, ведь карьера этих бедняг будет погублена, и всё из-за шуток, которые не смешны, не остроумны, да и игра эта не стоила свеч». В этом весь Дантес, такой, каким он проявит себя и в истории с Пушкиным.
Очень характерен с этой точки зрения его рассказ в письме от 2 августа 1835 года о празднике в Графской Славянке под Павловском, в имении графини Юлии Самойловой, или Жюли, как Дантес её называет. Описание этого праздника мы встречаем и в письме Ольги Сергеевны Павлищевой, сестры Пушкина, своему мужу Николаю Ивановичу от 12 сентября того же года из Павловска: «Кстати о новостях: Его Величество разрешил графине Самойловой удалиться при условии не появляться ни в Москве, ни в Петербурге. Недавно она вздумала устроить деревенский праздник в своей Славянке, наподобие праздника в Белом Доме Поль де Кока; поставили шест с призами — на нём висел сарафан и повойник: представьте себе, что приз получила баба 45 лет, толстая и некрасивая! Это очень развлекло графиню, как вы можете представить, и всё её общество, но муж героини поколотил её и всё побросал в костёр. […] Говорят, что офицеры, которые явились без позволения на этот праздник, назавтра были под арестом» (Письма Ольги Сергеевны Павлищевой к мужу и к отцу. 1831—1837. СПб., 1994. С. 107). В числе провинившихся Дантеса не было. Он пишет Геккерену, что «почёл за лучшее не бывать там, раз император так решительно высказался против тех, кто запросто посещал этот дом». Осторожность и ещё раз осторожность руководят поведением Дантеса.
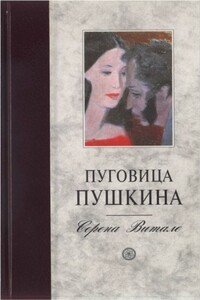
«Пуговица Пушкина» — литературно-документальная реконструкция событий, приведших А. С. Пушкина к трагической дуэли. Книга написана итальянским профессором русского языка и литературы Сереной Витале на основе исследования архивных источников, в том числе и новых документов из личных архивов наследников Геккерена-Дантеса.
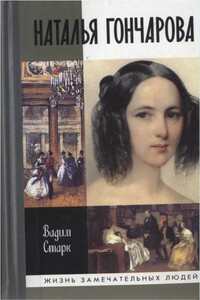
Все, кто знал Наталью Гончарову, сходились в одном: она была изумительной красавицей. Свет ревниво следил за ее успехами, пристально всматривался в ее поступки. Сплетники злословили по поводу ее отношений с Дантесом, приписывали ей равнодушие и прозвали «кружевной душой». Даже влюбленный в нее Дантес отказывал ей в уме. Многие считали ее виновницей гибели Пушкина. Сам же он называл Натали не только своей Мадонной, но также «женкой» и «бой-бабой». Она воспитала семерых собственных и троих приемных детей.Жизнь Натальи Николаевны, в 18 лет ставшей женой первого поэта России, а в 24 года оставшейся вдовой, по сей день вызывает споры, рождает мифы и разноречивые толки.
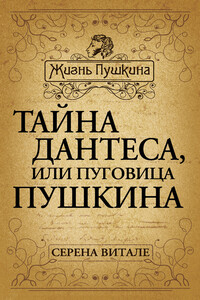
Эта книга-сенсация – взгляд на судьбу русского гения известной итальянской пушкинистки, исследовательницы и знатока русской литературы Серены Витале. Написанная на основе документальных источников, а главное, писем Жоржа Дантеса его приемному отцу, которые впервые были предоставлены автору из семейного архива Геккернов, она выстраивает цепь событий, приведших Пушкина к трагической дуэли. Витале рассказывает о том, что друзьям Пушкина вскоре после дуэли стала известна вызвавшая ее истинная причина, но они договорились держать ее в тайне…

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.
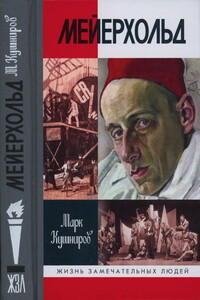
Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.