Человек в лабиринте идентичностей - [7]
Иначе говоря, он не станет бесцельно слоняться по лабиринту, а будет искать то, в чем сплетения путей, распутий и беспутиц, пусть даже в едва уловимом минимуме, слагаются в целое и служат целому, а не претендуют, в отдельности и каждое для себя, на стрелку с надписью выход. Если бы нам удалось воссоздать такой ход мысли, который, не будучи сам ни материалистическим, ни идеалистическим, ни каким угодно другим (во всей палитре отмеченных выше вариаций), настолько отвечал бы очевидному, что ни материалист, ни идеалист всех оттенков, ни кто угодно другой не смогли бы поначалу ничего возразить против него по существу, то этот ход мыслей и был бы встреченной Ариадной лабиринта: благосклонной судьбой из гегелевской «Феноменологии духа»,[35] подносящей нам, в образе девушки, сорванные с дерева прекрасные плоды. Именно поначалу, потому что с какого — то момента потом спорящие стороны, привыкшие к тупику, сжившиеся с тупиком и панически избегающие всего, что выводит из тупика и не есть тупик, как правило, начинают испытывать беспокойство. По — видимому, это и есть тот случай, когда не видят выхода, даже глядя на него в упор. Тут нет и не может быть никаких общих правил и решений. Истина лабиринта гласит:[36] «Мысли другого человека должно рассматривать не как таковые — и принимать или отвергать их, — а нужно видеть в них вестников его индивидуальности. […] Философия никогда не выражает общезначимых истин, она описывает внутренний опыт философа, посредством которого последний толкует явления».
2.
Можно будет усилием умной, феноменологически воспитанной воли вынести за скобки все привычные подходы и предоставить проблеме самой обнаружить себя в идеологически и мировоззрительно нейтрализованной чистой мысли. Единственным посредником, о котором могла бы вообще идти речь, была бы феноменологически аттестованная допредикативная очевидность, или, говоря обычным языком, здоровое восприятие, опирающееся на — здравый смысл. Начать следовало бы со следующего вопроса: есть ли в этом разнообразии и противостоянии мыслей и убеждений, называемом философия, нечто константное и устойчивое, что было бы присуще всем, даже самым противоположным и непримиримым позициям, и если да, то что именно? Ответ напрашивается из первого соприкосновения с очевидным: мир, каким он предстает в любой философской рефлексии, в качестве её предпосылки и условия, — это разделенный, раздвоенный мир. Наиболее общим выражением раздвоенности может служить, по — видимому, субъективное и объективное, хотя ясно, что её технические обозначения потребовали бы целого терминологического регистра. Тем не менее, для каждого, кто понимает, о чем идет речь, не составляет труда увидеть, что за разностью терминов скрывается — безразлично: в аспекте ли метафизики, или теории познания, или теологии, или практической философии (этики), или уже эстетики, политики и просто быта — некий инвариант варьируемых многообразий. Мир, открывающийся философской рефлексии, как её условие и начало, двусторонен: это одна и та же оппозиция, по — разному тематизируемая в градации подходов: онтологически, как идея и материя, дух и природа, сверхчувственное и чувственное·, гносеологически, как мышление и созерцание, понятие и восприятие·, логически, как единое и многое, общее и единичное (индивидуальное)·, психологически, как душа и тело·, мифологически, как сакральное и профанное·, теологически, как божественное и мирское (Бог и дьявол)·, этически, как доброе и злое; эстетически, как прекрасное и безобразное и т. д. Еще раз и в самом общем смысле: это противоположность между субъектом и объектом (соответственно: субъективным и объективным), или: между духовным и телесным. Здесь коренятся и отсюда тянутся нескончаемые споры философов о первичности одного из двух начал, но соль не столько в том, что для кого — то первичен дух, а для кого — то материя, сколько в том, что оба начала, как две капли воды, похожи друг на друга. Это философские близнецы, настолько вросшие в роль антиподов, что ставшие антиподами. Типичный дефект сознания, для которого вещь есть не то, как её воспринимают, а то, как её называют; если западная философия и соответствовала диагнозу «болезнь языка», то совсем не в смысле Маутнера или Витгенштейна, а как некоего рода «лингвозависимость». Гёте знал, на что он посягает, когда в § 754 «Учения о цвете» говорил о трудностях внесловесного понимания: «не ставить знак на место вещи, всегда иметь сущность живою перед собой и не убивать её словом». Но это же знали и те двое буддистских монахов, которые на вопрос посетившего их однажды профессора из Англии: «Кто такой Будда?», переглянулись и дружно ответили вместе: «Как! Вы не знаете, кто такой Будда! Дохлая собака». Конечно, шокированному англичанину и в голову не могло прийти, что ответ монахов — весельчаков столь же далек от кощунства, сколь он точен, потому что к самому Будде этот ответ относится ровно в той мере, в какой к самому Будде относится спрашивающий о нем в научных целях автор будущей монографии о Будде. Ответ — отвод: мгновенная экзекуция простака, шумно и тупо вламывающегося в зону, где даже иное молчание может показаться слишком громким, и где если и говорят вообще, то не в нарушение, а в исполнение молчания. Наверное, и философам, страдающим лингвозависимостью, но освобождающимся от нее в долгом процессе ломки, их впаянные в мозг понятия могли бы показаться однажды «дохлыми собаками». Скажем, вроде перечисленных выше духа, материи, Бога и т. д. Если взять, допустим, классическое определение материи, как объективной реальности, существующей вне и независимо от человеческого сознания, то, заменив материю Богом, можно будет и в соответствующей сноске заменить Энгельса, к примеру, Петром Ломбардским. Характерной чертой обоих (теистического и атеистического) Богов, по которой они легче всего идентифицируются поверх словесной закамуфлированности, является их трусость: один, при всей своей телесности, слишком труслив, чтобы опознать телесность как дух, другой, при всей своей духовности, не решается быть телом. Нас, впрочем, интересует, прежде всего, сама разделенностъ. Противоположности будут меняться местами, как партнерши по танцу в кадрили, и там, скажем, где прежде всё делала «душа», сегодня всё будет делать «мозг», а место незримых чинов ангелологии займут, к примеру, незримые радиоволны. Решать — при любых раскладах, причудах и рокировках — придется, однако, не в пользу того или другого претендента, а в корне, что значит: прежде чем спрашивать, что первично: дух или материя, надо же еще выяснить, откуда они сами взялись в мире, материя и дух.
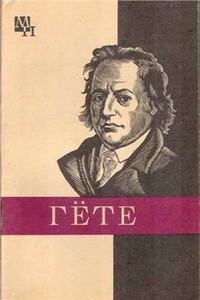
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).
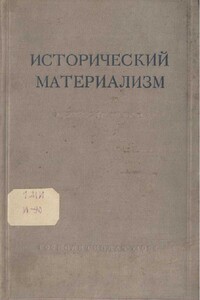
Из предисловия:Необходимость в книге, в которой давалось бы систематическое изложение исторического материализма, давно назрела. Такая книга нужна студентам и преподавателям высших учебных заведении, а также многочисленным кадрам советской интеллигенции, самостоятельно изучающим основы марксистско-ленинской философской науки.Предлагаемая читателю книга, написанная авторским коллективом Института философии Академии наук СССР, представляет собой попытку дать более или менее полное изложение основ исторического материализма.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.
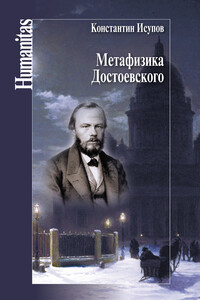
В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».
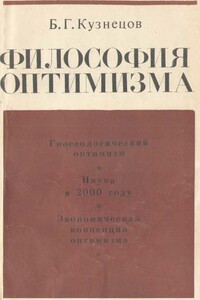
Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.
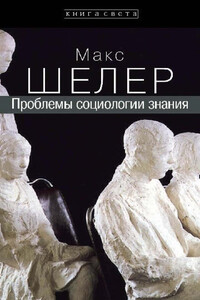
Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.