Человек плюс машина - [7]
То были дни, когда машина — нет, дотоле и не машина, а так, бесформенная груда бездушного металла (вкупе с полупроводниками и диэлектриками) — внезапно стала оживать, задышала, в мигании разноцветных лампочек на пульте, в барабанной дроби печатающего устройства, в неслышном змеином скольжении магнитных лент, даже в движении подмастерьев появился некий ритм, я бы сказал, осмысленность, заметная и неспециалисту. Иван Иванович за пультом был точно великий пианист, точно Вольфганг Моцарт, столь уверенны, столь нежны были прикосновения его к клавишам, он смотрел куда-то вперед и вверх, он не вытягивал шею и не посылал никого узнавать, сработала там Система или нет, он слушал, да-да, он слушал и слышал какую-то чудесную, доступную ему одному мелодию, к которой мы, низкие люди, явившиеся поздравлять его и уговаривать не отказываться от квартиры, оставались глухи. Или же мы были свидетелями творческого экстаза и сейчас же, при нас, эта мелодия еще только слагалась? Да-да, похоже, что так: Иван Иванович и впрямь что-то про себя напевал, о чем-то сам с собой (или с машиной?) разговаривал, сам себе (или ей?) улыбался, смеялся (!), а потом внезапно хмурился, остервенялся, пальцы его лихорадочно бегали вдоль регистров… и снова успокаивался, облегченно вздыхал, чело его прояснялось…
Мы, затаив дыхание, помнится, больше часу, притаившись сбоку за стойками, восхищенно взирали на него и не смели приблизиться… Кто-то побежал к Кириллу Павловичу, Кирилл Павлович принимал какого-то американца, они вместе и спустились к машине. Кирилл Павлович, увидев вышеописанную картину, сказал американцу: «Зет из ауа машина». А американец сказал: «О, карашо!» Под руки аспиранты привели сверху и Опанаса Гельвециевича и долго (под руки же) водили его вокруг машины… Вслед за начальством в зал набилось народу человек сто! Иван Иванович ничего не замечал! А как заметил, что окружен восхищенной толпой, вздрогнул и затрясся, заметался туда-сюда и, растолкав людей, бросился вон! На лице его — я стоял в самых дверях и попытался остановить его — были слезы. «Рано, рано еще радоваться!» — прошептал он мне…
И верно. Радоваться было рано. И много времени еще прошло, прежде чем настал час наш, заветный день; и еще много горя хлебнули мы с этой проклятой Системой, и прежде всего, конечно, сам Иван Иванович, потому что это на него валились теперь все шишки, катились всевозможные бочки, это ему объявляли выговоры, устраивали разносы за «невыполнение в установленный срок…», это о нем говорили на ученом совете и в кулуарах, что «было ошибкой доверять такому», а под горячую руку величали его заглазно ослом, а с глазу на глаз, а то и при людях советовали ему подыскивать себе другое место работы…
Случалось, что машина, так хорошо себя показавшая накануне, когда все решали уже, что — ура! свершилось! — наутро вдруг от неизвестных причин начинала барахлить, сперва легонько, затем все сильнее, сильнее, и к концу дня совсем разлагалась как «личность» (если уместно так выражаться о машине). Внешне все выглядело нормально, нигде ничего не перегорало, нигде ничего не отпаивалось, элементарные тесты на отдельных блоках и даже на главном процессоре проходили должным образом, но как целое, как «разумное» целое машинане желала(другого слова и не подберу, да у них на машине так обычно и говорилось), не желала работать. На то, чтобы восстановить прежнее состояние, вернуть то, что, казалось, уже было давно достигнуто, прочно закреплено, уходило порою больше месяца! А в другой раз, после какого-нибудь жуткого замыкания (было примерно так, что засадили в одну из машинных стоек, на беду открытую, концом водопроводной трубы, и целый блок выгорел), когда все уверены были, что теперь-то уж отброшены назад по меньшей мере на квартал, машина начинала работать как ни в чем не бывало, едва только отключали ее изуродованную часть… Рассказывать об этом можно очень долго.
К концу того периода, после двух с лишним лет, отданных машине, Иван Иванович уже не носился как вихрь по коридорам, он еле ползал, его качало из стороны в сторону, впечатление было такое, что он вообще разучился ходить, и, передвигаясь по залу, он должен был хвататься за стойку, руки у него дрожали, он здорово поседел, сказать, что лицо его было землистого оттенка, это еще ничего не сказать, это был цвет какого-то ядовитого химикалия, кто-то даже называл какого, я только забыл; словом, Опанас Гельвециевич в свои девяносто лет рядом с Иваном Ивановичем был разудалый молодец из сказки; а Иван Иванович, ко всему прочему, и разговаривать-то разучился — нет, не разучился, потому что сам-то с собою он все время разговаривал, что-то под нос себе бубнил, вслух же не мог — не было голоса, язык не ворочался, что ли? — так, шептал что-то или мычал… Но если по совести, то и разговаривать ему в это время не с кем особенно было: мало кто хотел с ним разговаривать. Начальство только костерило его на чем свет стоит и даже не требовало в ответ оправданий. Коллеги? Коллеги его по работе по разным причинам избегали; я сам — ничего не поделать, грешен — после того, как однажды почти накричал на него, что, дескать, не надо ему губить себя, надо бросить все и уехать к чертовой матери! — после уже не мог общаться с ним прежним манером, хоть и извинился, хоть он и прошептал, что на меня не в обиде…
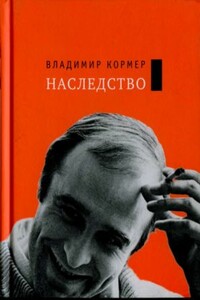
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960—1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Роман «Наследство» не имел никаких шансов быть опубликованным в Советском Союзе, поскольку рассказывал о жизни интеллигенции антисоветской. Поэтому только благодаря самиздату с этой книгой ознакомились первые читатели.
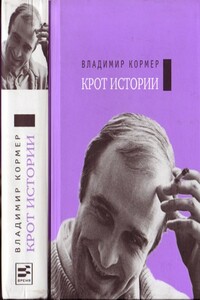
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960 —1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание…») и общества в целом.
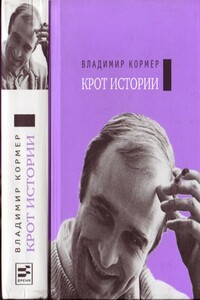
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960—1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание...») и общества в целом.
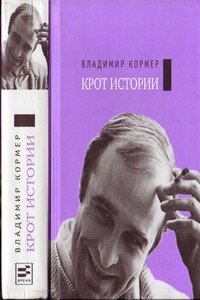
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960 —1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание…») и общества в целом.
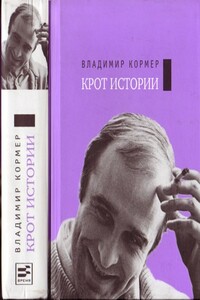
Единственная пьеса Кормера, написанная почти одновременно с романом «Человек плюс машина», в 1977 году. Также не была напечатана при жизни автора. Впервые издана, опять исключительно благодаря В. Кантору, и с его предисловием в журнале «Вопросы философии» за 1997 год (№ 7).

Роман «Доктор Сергеев» рассказывает о молодом хирурге Константине Сергееве, и о нелегкой работе медиков в медсанбатах и госпиталях во время войны.
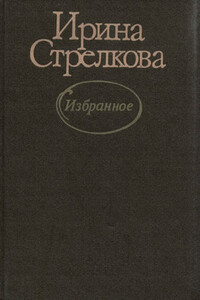
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».

Из предисловия:Владимир Тендряков — автор книг, широко известных советским читателям: «Падение Ивана Чупрова», «Среди лесов», «Ненастье», «Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд» и др.…Вошедшие в сборник рассказы Вл. Тендрякова «Костры на снегу» посвящены фронтовым будням.

Эта книга написана о людях, о современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях. Это люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края».Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.