Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России - [12]
Политический язык формируется благодаря вхождению в дискурсивное пространство политики социопрофессиональных идиом и диалектов[62]. Например, общественные дебаты часто ведутся с использованием терминов и аргументов из разных сфер или дисциплин – экономики, права, психологии, теологии, физики (например, оптические метафоры, важные для риторики Т. Гоббса, или понятие революции, заимствованное из астрономии и геологии), философии, в том числе политической, истории или историософии[63]. В политических текстах обнаруживаются и элементы речи различных социальных групп, включая жаргоны и сленги – корпоративный, аристократический, тюремный, блатной или просторечный. Каждый из профессиональных языков сам по себе не является политическим, однако потенциально способен таковым стать. Структура политического языка подвижна: одна и та же профессиональная идиома может входить в него на определенное время, благодаря инновациям и заимствованиям, а затем перемещаться вовне политического дискурса. Политических языков много, и они, подобно нитям в узоре ткани, переплетаются между собой, образуя новые и новые конфигурации внутри отдельных текстов.
Кроме того, при реконструкции репертуара политических языков прошлого особый смысл приобретает акцент на режимах публичности: статус политической речи во многом зависит от состояния дискуссионного поля, внутри которого она произносится[64]. Важно, как в том или ином государстве устроена политическая система, в какой мере развиты институты публичности (пресса, салоны, театр, парламент, двор, масонские ложи, кофейни и др.), сурова ли цензура, ведется ли конкуренция между политическими языками, имеет ли один из них статус официального и т. п. В зависимости от этих условий оценки политико-философских ходов будут меняться. Помимо прочего, существенно, насколько проницаемы границы публичных сфер: обладают ли агенты возможностью приобщаться к другим режимам публичности, имеют ли место идеологические трансферы, когда текст, предназначенный для одного общественного пространства, начинает циркулировать в другом.
Восемь «Философических писем» были созданы на французском языке в 1829–1831 гг. Затем в течение нескольких лет автор безуспешно пытался напечатать отдельные фрагменты цикла. В 1831 г. он задумал выпустить шестое и седьмое письма в виде отдельной брошюры[65]. Чаадаев вел переговоры с петербургским издателем Ф. Беллизаром[66], а в 1832 г., используя связи своей приятельницы А. П. Елагиной[67], захотел опубликовать перевод отрывков из двух писем в московской типографии О. Р. Семена под заглавием «Deux lettres sur l’histoire adressées à une dame» («Два письма об истории, адресованные одной даме»)[68]. Впрочем, намерения Чаадаева так и остались нереализованными – выход книги заблокировала духовная цензура. В 1833 г. Н. А. Мельгунов планировал издание литературного альманаха, в котором, как мы знаем из письма Е. А. Баратынского к П. А. Вяземскому от 3 февраля этого года, могли появиться переводы неких чаадаевских сочинений, возможно, отдельных «Философических писем»[69]. В 1834 г. публикацией «Философических писем» в Петербурге надлежало заняться молодому знакомцу Чаадаева С. С. Хлюстину. А. И. Тургенев писал Вяземскому 24 октября 1834 г. из Петербурга: «Хлюстин, здесь служит при Бл‹удове› и смотрит вдаль, но еще несколько педантоват, хотя умен и не без европейского просвещения. Сбирается печатать мистику московского графа Мейстера»[70]. В итоге намерения Хлюстина также остались без последствий.
В 1835 г. Чаадаев заметно активизировался. С одной стороны, он попытался предложить первое «Философическое письмо» в журнал «Московский наблюдатель», однако его осторожный издатель В. П. Андросов не пошел на рискованный шаг. С другой – автор «Философических писем» искал варианты публикации своих трудов во Франции – через А. И. Тургенева и А. К. Мейендорфа[71]. 1 мая 1835 г. Чаадаев попросил Тургенева поспособствовать выходу в свет его сочинений и выслал своему корреспонденту новую редакцию первого «Философического письма». Он подготовил свой текст к печати: снабдил его заголовком («Lettre I»), эпиграфом («Adveniat regnum tuum»), датой («1829») и местом написания, которое зашифровал как «Nécropolis»[72]. Тем не менее Тургенев по ряду причин предпочел придержать чаадаевскую статью и не отдавать ее парижским издателям[73]. Несмотря на настойчивое стремление Чаадаева познакомить русскую и французскую публику с результатами собственных размышлений о философии истории, до 1836 г. сделать это не удавалось. Так или иначе, Чаадаев предполагал печатать свои произведения в России и в то же самое время рассчитывал, что они способны заинтриговать и французского читателя.
Один из наиболее проницательных интерпретаторов истории русской общественной мысли Г. Г. Шпет отмечал: «Чаадаев – не обладал ни философским образованием, ни философским гением, ни даже подлинно философским интересом. Это был хорошо светски образованный человек»[74]. «Les lettres philosophiques» – это не ученый трактат, а своего рода запись философской беседы с дамой в светской гостиной. Риторическая структура писем возвращает нас к социальной практике, на которой основана французская интеллектуальная культура XVIII в., – утонченному разговору в аристократическом салоне. Здесь педантичные рассуждения о науке считались дурным тоном, а речь должна была прежде всего отличаться оригинальностью, парадоксальностью и остроумием. Манеру Чаадаева можно сравнить с описанным П. А. Вяземским устройством светской беседы, которую он уподобил прогулке по парку:
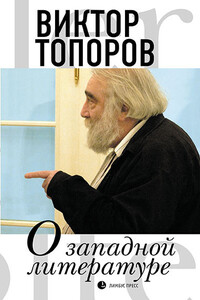
Виктор Топоров (1946–2013) был одним из самых выдающихся критиков и переводчиков своего времени. В настоящем издании собраны его статьи, посвященные литературе Западной Европы и США. Готфрид Бенн, Уистен Хью Оден, Роберт Фрост, Генри Миллер, Грэм Грин, Макс Фриш, Сильвия Платт, Том Вулф и многие, многие другие – эту книгу можно рассматривать как историю западной литературы XX века. Историю, в которой глубина взгляда и широта эрудиции органично сочетаются с неподражаемым остроумием автора.

Так как же рождаются слова? И как создать такое слово, которое бы обрело свою собственную и, возможно, очень долгую жизнь, чтобы оставить свой след в истории нашего языка? На этот вопрос читатель найдёт ответ, если отправится в настоящее исследовательское путешествие по бескрайнему морю русских слов, которое наглядно покажет, как наши предки разными способами сложения старых слов и их образов создавали новые слова русского языка, древнее и богаче которого нет на земле.
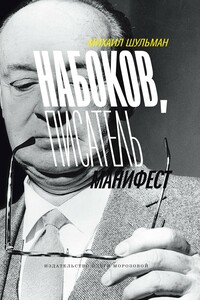
Набоков ставит себе задачу отображения того, что по природе своей не может быть адекватно отражено, «выразить тайны иррационального в рациональных словах». Сам стиль его, необыкновенно подвижный и синтаксически сложный, кажется лишь способом приблизиться к этому неизведанному миру, найти ему словесное соответствие. «Не это, не это, а что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все». «Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы.

Содержание этой книги напоминает игру с огнём. По крайней мере, с обывательской точки зрения это, скорее всего, будет выглядеть так, потому что многое из того, о чём вы узнаете, прилично выделяется на фоне принятого и самого простого языкового подхода к разделению на «правильное» и «неправильное». Эта книга не для борцов за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Потому что и те, и другие так или иначе подвержены вспышкам языкового высокомерия. Я убеждена, что любовь к языку кроется не в искреннем желании бороться с ошибками.

Литературная деятельность Владимира Набокова продолжалась свыше полувека на трех языках и двух континентах. В книге исследователя и переводчика Набокова Андрея Бабикова на основе обширного архивного материала рассматриваются все основные составляющие многообразного литературного багажа писателя в их неразрывной связи: поэзия, театр и кинематограф, русская и английская проза, мемуары, автоперевод, лекции, критические статьи и рецензии, эпистолярий. Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты».

Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.
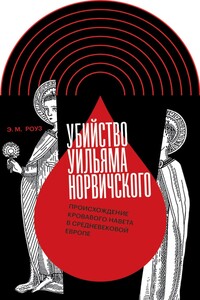
В 1144 году возле стен Норвича, города в Восточной Англии, был найден изувеченный труп молодого подмастерья Уильяма. По городу, а вскоре и за его пределами прошла молва, будто убийство – дело рук евреев, желавших надругаться над христианской верой. Именно с этого события ведет свою историю кровавый навет – обвинение евреев в практике ритуальных убийств христиан. В своей книге американская исследовательница Эмили Роуз впервые подробно изучила первоисточник одного из самых мрачных антисемитских мифов, веками процветавшего в массовом сознании.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.