Церковь и демократия - [2]
Но здесь-то, на пороге новой эпохи, в трудную минуту исторической растерянности и смущения, нас опять подстерегает новый и вместе старый соблазн: отдаться новому господину, склониться пред новым идолом. Таким господином в наши дни является не самодержавный монарх, но самодержавный народ, демократия. И перед новым самодержавием привычным жестом сгибаются колени, за страх или за совесть. Однако не должно сгибаться высшему началу пред низшим, и не вместо церкви заискивать пред демократией. В сей час исторического испытания по-новому предостерегающе звучит нам слово апостола: "дети, храните себя от идолов"!
Без сопротивления сданы были старые позиции, которых некому оказалось защищать. Церковное общество с открытым сердцем пошло навстречу свободе народной, обещанной народовластием, оно слилось с народом в его политической весне. И вместо "истинно русских", монархических начал стали все чаще провозглашаться «демократические». В церковных кругах стала все настойчивей подчеркиваться приверженность православия к «демократии» и желание на все лады «демократизировать» православие; это почти становится требованием хорошего тона в наши дни. Пастыри и люди церкви в большинстве случаев искренне, не за страх, а за совесть идут с народом в его освободительном порыве. Ибо всегда была народна и жила с народом наша церковь. В ней нет того аристократизма князей церкви, воинствующего клерикализма и политиканства, которое отличало католичество, вызывая ссору государства с церковью. Православие есть, действительно, народная церковь, даже больше того: по бытовому своему укладу простонародная, мужицкая. Поэтому нет ничего странного и неожиданного в этом дружелюбии церкви по отношению к демократии.
Но именно потому и в тем большей степени существует для православия соблазн демократии, это готовность мерить себя по демократии, превратить ее в идола, в какого ранее превращено было самодержавие. Поэтому-то и надлежит настойчиво различать природу православия и демократии: между ними возможно и сближение, и расхождение, в зависимости от того, чем духовно оказывается демократия.
Смешению этих различных стихий благоприятствует и само строение православной церкви, которое извне легко сближается с демократическим, именно ее соборность. Соблазн демократии религиозно не существует для католичества, поскольку оно держится на власти клира, возглавляемого папой: подчинение и дисциплина скрепляют здесь тело церковное, торжествует монархическое начало, осуществляемое папой чрез посредство клира, а народ церковный остается безгласен. Хотя и в православии в полной мере признается иерархия, и епископат с клиром занимают необходимое место, однако единство церковное установляется не только иерархической дисциплиной, но и некоей силой, именуемой соборностью и определяемой как единство в любви и свободе. И вот эту-то идею православной соборности, при современной притупленности церковного самосознания, легко подменить или смешать с идеей народовластия, господства "воли народной" в делах церковных, такого же, как и в государственных. Разве не наблюдается подобное смешение теперь на наших Церковных собраниях, епархиальных съездах и т. под., где вопросы решаются борьбою отдельных церковных групп, а соборность понимается как господство захватившего власть большинства? Такое проникновение начал демократии в церковную жизнь означало бы обеднение и обмирщение последней.
Церкви нужна свобода, которой лишена она была при старом строе. Если ей даст это благо демократия, она будет ей признательна, но что может прибавить церкви эта ее «демократизация»? Разве и без этого не была она с народом в его радости и печали? Или не народны были великие угодники русской церкви, преподобные Сергий и Серафим? Или не народны о. Амвросий Оптинский и другие чтимые старцы, которые блюли и блюдут совесть народную в такой мере, в какой это не снилось демократии? Нет, русскому православию нечему в этом отношении учиться у демократии, оно должно оставаться прежде всего самим собой во всей серьезной важности своего вероучения. Тем самым и чрез то оно и пребудет, если не «демократическим», то народным. Да и что же такое, наконец, есть эта демократия, к которой желает во что бы то ни стало приблизиться часть нашего церковного общества? Что представляет собой в религиозном смысле эта "воля народная", на которую теперь ссылаются как на высший и непререкаемый авторитет? Есть ли народ демократии именно тот самый народ, о котором говорит апостол, обращаясь к своей пастве: вы "род Божий, царственное священство, народ святой" (1 Петр. 2, 9)? Очевидно, еще нет, ибо демократия может иметь разное лицо, и воля народная способна определяться различно. Одна и та же «демократия» иерусалимская вопияла «осанна» и постилала ризы свои на пути при входе Господнем в Иерусалим, но она же несколькими днями позже изъявляла "волю народную" воплем: "распни, распни Его!". Очевидно, воля народная одинаково способна как вдохновляться истиной, так и затемняться ложью, доходя до зверства, тирании, кощунства. Суеверное преклонение пред "волей народной", лежащее в основе культа демократии, родилось из обожествления греховного человека, взятого в множественности или совокупности своей. Глашатаем этой веры еще в XVIII в. явился Руссо, веривший, что существует "общая воля", которая "постоянна, незыблема и чиста"; причем ее нужно только выявить или открыть всеобщим голосованием. Она, эта воля, обладает истинностью, она и есть самодовлеющий путь, истина и жизнь. Столь дерзновенно противопоставляется здесь непросветленная стихия народа Свету мира, который есть единственно Путь, Истина и Живот. Можно ли смешивать такое человекобожие с христианской верой? Это учение о непогрешимости человечества в его групповом, классовом или государственном объединении еще больше утвердилось в XIX в., особенно в Германии. Немецкий же дух влиял и влияет всего сильнее на русский социализм, им запечатлено самосознание и наших социалистических партий. Пускай и в науке давно уже возбуждает сомнения это учение о воле народной, однако в массах все еще незыблемо держится это самообожествление толпы. Но это самоослепление не должно иметь никакой убедительности для церкви.
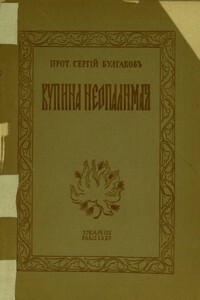
КУПИНА НЕОПАЛИМАЯОпыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании БогоматериПАРИЖ, 1927Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.Источник: http://odinblago.ru.
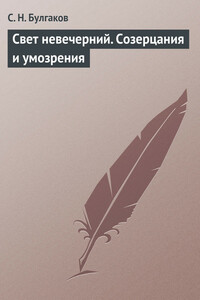
Книга выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Булгакова (1871–1944) – самая значительная его философская работа, представляющая собой, по словам автора, род духовной автобиографии или исповеди. «Как возможна религия», «вера и чувство», «религия и мораль», «природа мифа», «мировая душа», «природа зла», «пол в человеке», «грехопадение», «спасение падшего человека», «власть и теократия», «общественность и церковность», «конец истории» – таковы лишь некоторые из многочисленных вопросов, которые С. Булгаков рассматривает в своей книге, давно ставшей библиографической редкостью.

Глава из книги: Булгаков С., прот. Икона и иконопочитание. Париж, 1931, с. 97-115. Печатается по этому изданию.
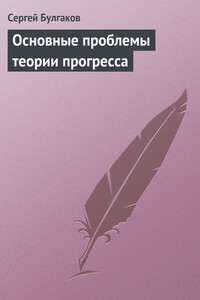
«О. Конт установил т. наз. закон трех состояний (loi de trois états), согласно которому человечество переходит в своем развитии от теологического понимания мира к метафизическому, а от метафизического к позитивному, или научному. Философия Конта ныне уже потеряла кредит, но этот мнимый закон все еще, по-видимому, является основным философским убеждением широких кругов нашего общества. Между тем он представляет собой грубое заблуждение, потому что ни религиозная потребность духа и соответствующая ей область идей и чувств, ни метафизические запросы нашего разума и отвечающее на них умозрение нисколько не уничтожаются, даже ничего не теряют от пышно развивающейся наряду с ними положительной науки…».
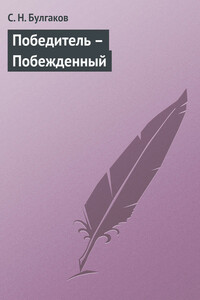
Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей. 1891–1917 гг.

Книга известного церковного историка Михаила Витальевича Шкаровского посвящена истории Константино польской Православной Церкви в XX веке, главным образом в 1910-е — 1950-е гг. Эти годы стали не только очень важным, но и наименее исследованным периодом в истории Вселенского Патриархата, когда, с одной стороны, само его существование оказалось под угрозой, а с другой — он начал распространять свою юрисдикцию на разные страны, где проживала православная диаспора, порой вступая в острые конфликты с другими Поместными Православными Церквами.

"Еще два года назад можно было надеяться, что начавшееся духовное пробуждение России будет постепенно набирать силу и в течение десятилетий незаметным и кропотливым, не афиширующим себя трудом удастся восстановить и в душах людей и в стране то, что разрушалось и ветшало также десятилетиями. Сегодня уже невозможно столь беспроблемно видеть наше будущее. Стена, воздвигнутая государственным атеизмом между ныне живущими и духовной культурой исторической России, пала, но ее энергично бросились восстанавливать протестантские проповедники со всего света. В этой статье я попробую дать ответ на два вопроса: во-первых, почему меня тревожит активность протестантов в России, а во-вторых, почему же Православная Церковь без всяких попыток реального сопротивления отдает Россию американским и корейским проповедникам.".
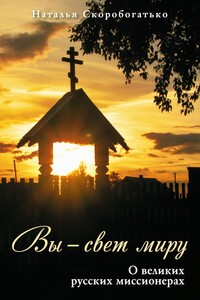
В сонме канонизированных Православной Церковью святых особое место принадлежит миссионерам — распространителям православной веры среди иноверцев. Их труды часто именуют апостольской деятельностью. В этой небольшой по объёму книге повествуется о трёх великих русских миссионерах, просветивших светом Христова учения Аляску, восточную часть России и Японию. Речь пойдёт о преподобном Германе Аляскинском, святителях Иннокентии Московском и Николае Японском. Книга предназначена для детей среднего школьного возраста.
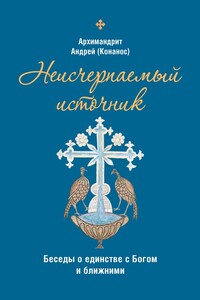
В книге архимандрита Андрея (Конаноса) «Неисчерпаемый источник» собраны беседы известного современного проповедника, которые учат, как найти источник любви, как прийти в единение с Богом, собой и ближними, как это единение может наполнить сердце радостью и утешением. «Минуты любви наполняют сердце счастьем и утешением, потому что ты возвращаешься в своё реальное устроение: ты ведь таким и был создан — ты рождён, чтобы любить. Ты себя плохо чувствуешь, когда не получаешь любви. Тогда ты испытываешь боль, мы все тогда испытываем боль.
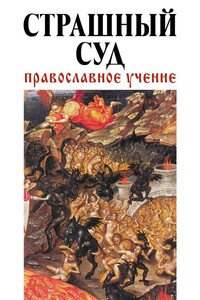
О конце мира и Страшном Суде говорили святые пророки и апостолы; об этом говорит Священное Писание. Иисус Христос незадолго до смерти открыл ученикам тайну кончины мира и Своего Второго Пришествия. День Страшного Суда неизвестен, поэтому каждый христианин должен быть готов ко Второму Пришествию Господа на землю, к часу, когда придется ответить за свои грехи. В этой книге изложено сохраненное Православной Церковью священное знание о судьбе мира. Также собраны рассказы о загробной жизни, явлениях умерших из потустороннего мира, о мучениях грешников в аду и блаженстве праведников в Раю. Книга рекомендована Издательским Советом Русской Православной Церкви.
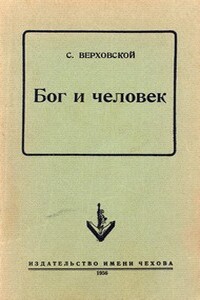
С. С. Верховский "Бог и человек"УЧЕНИЕ О БОГЕ И БОГОПОЗНАНИИ В СВЕТЕ ПРАВОСЛАВИЯЗамысел этой книги — дать читателю представление о Боге и о том, как мы можем приблизиться к Нему, узнать Его и быть с Ним в общении. Я хотел дать общее введение в тему книги и очерк библейского и отеческого учения о пути к Богу и о Самом Боге. Но размеры книги не позволили исполнить первоначальный план и рукопись моя была сильно сокращена. Пришлось отказаться от введения, выпустить учение святых отцов, живших до четвертого века; сократить многие главы.