Цель и смысл жизни - [31]
Учение священного Писания о посте заключим замечанием об отношении к этому учению церковных предписаний о посте. Церковный пост не имеет единственным своим принципом воздержание, иначе эти предписания о временах и родах пищи противоречили бы учению слова Божия; но в нем к этому принципу привходит другой принцип повиновения Церкви, упражнения воли в послушании ей. Этот последний принцип происхождения монастырского и в монастырях находит свое полное применение по правилу: «все предать в волю духовного отца своего, как в руку Божию, есть дело совершенной веры. Даже глотка воды проглотить не проси, хотя бы случилось тебе быть палиму жаждою, пока духовный отец твой, сам в себе подвигнут будучи, не велит тебе это сделать» (преп. Симеон Нов. Богосл.). Церковный пост имеет дисциплинарно-воспитательное значение. Для всякого ясно, что, соблюдая внешне предписания Церкви о временах и родах пищи, можно проводить невоздержную жизнь, как почти всеми проводится у нас, напр., масленица; но на первых шагах духовной жизни, когда совесть или немощна, или груба, церковный пост, во всяком случае, есть школа воздержания.
III
Смотрите за собою, — заповедал нам Господь, — чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством, и — добавил — заботами житейскими (Лук. XXI, 34). Кроме невоздержания плоти, врагом духовной жизни являются житейские заботы, требования мира сего.
Вникните, чем всецело поглощен мирской человек. Посмотрите на его жизнь внимательно, и вы согласитесь, что его внешние заботы и чувственные попечения гораздо шире, чем требования его плоти. Напр, внимание, которое мирской человек уделяет половой любви, требущей больших затрат и времени, и душевных сил, и материальных средств, далеко не покрывается запросами плоти. Самое похотливое животное не так требовательно в этом отношении, как бывает требователен человек, который при возможности, к счастью чрезвычайно редкой, окружает себя десятками и даже сотнями жен. У человека к половой похоти присоединяются социальные чувства гордости и ненависти, которые и доводят чувственную похоть до громадных размеров. Мольеровский Дон-Жуан, это олицетворение половой любви, смотрит на свои любовные похождения как полководец на военные походы. «Все наслаждение любви, — говорит он, — состоит в перемене. Чувствуешь непостижимое удовольствие, когда всевозможными уверениями покоришь сердце молодой красавицы... Но раз остался победителем, больше желать нечего; вся прелесть страсти исчезла, и мы засыпаем в спокойствии такой любви, если новый предмет не возбудит наших желаний и не представит нашему сердцу обольстительной прелести новой победы. Словом, нет ничего восхитительнее, как восторжествовать над сопротивлением красавицы. Тогда я чувствую в себе честолюбие завоевателей, которые одерживают одну победу за другою». Вполне справедливо замечает Руссо («Эмиль»): «самолюбие более производит распутников, нежели любовь». Поэтому, конечно, физиологическое удовлетворение похоти без удовлетворения самолюбия не дает удовлетворенности, и ее не чувствовал Марк Волохов, герой «Обрыва», выйдя из беседки. Также одежды и жилище мирского человека изысканнее, его стол обильнее, чем сколько нужно для похотливых потребностей, не говоря уже о скромности требований нравственно-здорового тела. Светская дама наряжается не по одной склонности к изяществу и красоте, а чтобы не уступить одним и превзойти других. Все наше излишество для мира. Мы одеваемся и живем в возможной для нас степени роскошно, потому что «по платью встречают», а мы желаем, чтобы нас встречали хорошо, — мы желаем импонировать. Мы стараемся, поэтому, не только быть, но и казаться, а иногда не столько быть, сколько казаться сытыми, богатыми, учеными, знатными. А между тем, какою обузою ложится на человека это служение миру!... Он работает ради требований «света», который есть тьма, до истощения, его мысль занята мирскими заботами непрерывно, ради мира он попирает высшие запросы духа. Эта власть мира начинается с мелочей, с модного фасона платья, а доходит дело до того, что человеку некогда Богу помолиться, нет времени почитать хорошую книгу и нет возможности уделить из большого дохода или жалованья рубля на нищих; начинается с соблюдения правил вежливости, как будто совпадающих с нравственностью, а кончается нарушением ради требований мира самых существенных правил нравственности. Стыдно, имея большой чин и одеваясь по-модному, заняться ручным трудом; стыдно, живя в «свете», отказаться от убийства на дуэли. Велика эта власть князя мира сего: люди безумны, нет места свободной мысли, царствуют шаблон и мода. Действительность свидетельствует, что нужно быть героем, чтобы иметь силы противостать обычаям мира. И у гения не всегда достает для сего силы. Великий Пушкин был рабом «света», презирая его в душе: это составляло горькую трагедию всей его жизни. Силы для борьбы с обычаями мира сего дает юродство Христа ради. Юродство — это добровольно принятый уничиженный образ жизни, отличный от обычного, иной (= инок). В таком добровольном, а если недобровольном, то благодушно переносимом уничижении выражается то, что человек ничего лично себе не ищет, ни на какое достоинство не претендует. Такое юродство дает человеку силы противостоять обычаям мира. Сам мир, который не может простить кому-нибудь из своих отступления от его обычаев, прощает такое отступление человеку не от мира сего, признает за ним право на такую свободу. Вот как это поясняется историей молодости старца Зосимы («Братья Карамазовы»). Попав в молодости в Петербург, он стал таким же, как и все другие: «лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел, а служивших нам в (кадетском) корпусе солдат считали мы все, как за совершенных скотов, и я тоже... Когда вышли мы офицерами, то готовы были мы проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь, о настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое есть». И вот наш молодой офицер оскорбляет ничем невиноватого пред ним помещика и вызывает его на поединок. «Тогда хоть и преследовались поединки жестоко, но была нз них как бы даже мода между военными, — до того дикие нарастают и укрепляются иногда предрассудки». Но накануне дуэли с ним совершился переворот, «нечто как бы роковое». С вечера он избил своего денщика, и в нем проснулась совесть, которая с вечернего буянства перенеслась на предстоящее зверство. Он стал размышлять: «что я иду делать? Иду убивать человека доброго, умного, благородного, ни в чем предо мною неповинного». Утром, попросив прощения у денщика и сделав пред ним земной поклон, он отправился на поединок с созревшим решением и, выдержав выстрел противника, отказался от своего выстрела. «Сам я, — говорил он тому, — хуже вас в десять крат, а пожалуй еще и того больше». Такой христианский поступок его вызвал единодушное осуждение. Все товарищи собрались его судить в тот же день: «Мундир, дескать, замарал, пусть в отставку подает». И вот тут-то он объявил им о своем решении итти в монастырь. «Как только я сказал, расхохотались все до единого: — да ты бы с самого начала уведомил, ну, теперь все и объясняется, монаха судить нельзя, — смеются, да и не насмешливо вовсе, даже самые ярые обвинители»... Этот правдивый рассказ подтверждается ежедневным наблюдением. Достаточно мирским людям убедиться, что известный человек не является их соперником в мирских стремлениях, что он не от мира сего, и они прощают ему духовную жизнь.
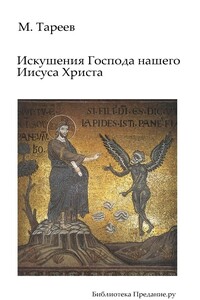
Настоящее сочинение „Искушения Господа нашего Иисуса Христа“ представляет собою второе, вновь обработанное, издание книги „Искушения Богочеловека, как единый искупительный подвиг всей земной жизни Христа, в связи с историею дохристианских религий и христианской церкви. Москва. 1892“. При этом пересмотре своей работы автор прежде всего руководился правилом Сократа Схоластика „оставлять то, что требует особого сочинения“ (H. Е. III, 23). Отсюда сокращение работы и соответствующее изменение заглавия. Но и оставшийся в этом сокращении материал переработан заново.
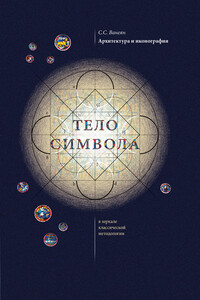
Впервые в науке об искусстве предпринимается попытка систематического анализа проблем интерпретации сакрального зодчества. В рамках общей герменевтики архитектуры выделяется иконографический подход и выявляются его основные варианты, представленные именами Й. Зауэра (символика Дома Божия), Э. Маля (архитектура как иероглиф священного), Р. Краутхаймера (собственно – иконография архитектурных архетипов), А. Грабара (архитектура как система семантических полей), Ф.-В. Дайхманна (символизм архитектуры как археологической предметности) и Ст.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.
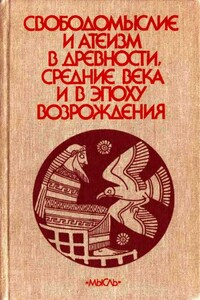
Атеизм стал знаменательным явлением социальной жизни. Его высшая форма — марксистский атеизм — огромное достижение социалистической цивилизации. Современные богословы и буржуазные идеологи пытаются представить атеизм случайным явлением, лишенным исторических корней. В предлагаемой книге дана глубокая и аргументированная критика подобных измышлений, показана история свободомыслия и атеизма, их связь с мировой культурой.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.