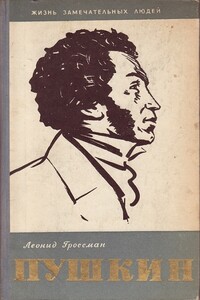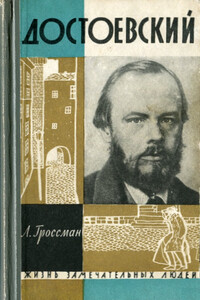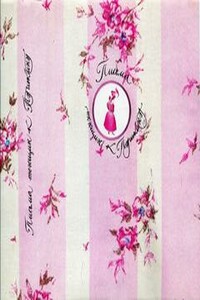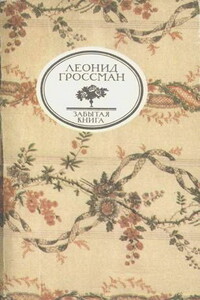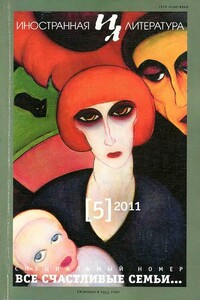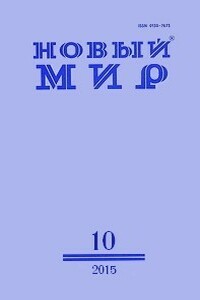Эти портреты бесстрашного террориста, конечно, искажали его облик, придавали ему зверский вид и вполне подкрепляли его характеристики, как «исчадия ада». Одно из таких изданий королевского правительства могло проникнуть и в Россию ввиду своего тенденциозного антиреволюционного характера[133].
Во всяком случае поступок Лувеля произвел сильнейшее впечатление на Пушкина. В 1821 г. он пишет свой знаменитый «Кинжал» — стихотворение, которое расходилось в сотнях списков. Он, очевидно, имеет в нем в виду не только студента Занда, убившего литератора Коцебу. Стихи: «Ты кроешься под сенью трона, под блеском праздничных одежд» ясно указывают, что знаменитая ода «тайному страху свободы» воздает хвалу и убийце герцога Беррийского — Лувелю[134].
I
Тихие, глубокие, неподвижные озера. Вековые сосны, нависшие широкими шатрами над извилистой лесной дорогой. Медленная, почти зеркально-застывающая Сороть, поистине, «лоно сонных вод»… И затем холмы и жнивья вплоть до синеющих на горизонте новых рощ и только кое-где разбросанные хаты, почти не нарушающие редкими пятнами своих почерневших кровель этого широкого разлива природы, немного унылого, но прекрасного пейзажа Псковской области.
Так вот он, этот «далекий северный уезд», куда 9 августа 1824 года, после усиленной правительственной переписки, прибыл на новый этап своего изгнания Пушкин. Здесь он провел «отшельником два года незаметных»… Здесь были написаны «Борис Годунов», центральные главы «Онегина», конец «Цыган». Отсюда в осеннюю ночь под охраной фельдъегеря, «свободно, но под надзором» Пушкин выехал в Москву по вызову Николая, решившего загладить эффектным жестом — прощением «опального поэта» — гнетущее впечатление от казни декабристов. Сюда наконец в зимнюю вьюгу Александр Тургенев привез гроб с телом затравленного поэта, которое и было предано погребению на отвесном холме, под густой тенью вязов, лип и древних сооружений.
Это один из главных узлов пушкинской биографии. За столетие здесь, конечно, многое изменилось. Особенно — за последнее десятилетие. До 1914 г. пушкинские места Псковской губернии сохраняли почти без изменений свой старинный облик. Накануне войны биограф Пушкина еще мог изучать здесь почти во всем объеме обстановку ссылки поэта.
Война и революция преобразили эти глубокие «затишья». Западный фронт проходил в 3–4 десятках верст от мест пушкинского изгнания. История последнего десятилетия бурно проносилась над музейными ценностями и литературными памятниками, часто не имея времени задуматься над их дальнейшей участью.
Отсюда новый облик «пушкинских мест». Следов поэта здесь меньше, чем это было недавно, но они не вовсе исчезли. Пушкина здесь продолжаешь чувствовать и в природе, напоминающей пейзаж «Онегина», и в остатках немногих старинных зданий, и особенно в живых преданиях этих мест.
Среди обитателей «Опочецкого уезда» немало людей, знавших недавно лишь ушедшее поколение современников поэта. Вот, например, «дворовый человек» тригорских помещиков, на руках которого скончалась в начале 80-х годов сама Евпраксия Николаевна Вревская (рожденная Вульф), резвая собеседница Пушкина, до конца считавшая себя прототипом Татьяны. Старичок Федор Михайлович охотно делится с вами своими воспоминаниями о жителях Тригорского:
«Вот здесь стояла баня, куда отсылали ночевать Пушкина: Евпраксия Николаевна, покойница, говаривала: „Мать боялась, чтобы в доме ночевал чужой мужчина. Ну, и посылали его в баню, иногда с братом Алексеем Николаевичем (Вульфом). Так и знали все“. И недавно еще, когда стояла баня, посетители всегда откалывали себе по кусочку „с пушкинского жилища“, так что все углы избы пообкололи. Да вот и с нижних ветвей этого дуба все листья сорвали — на память о Пушкине. И верно покойный Александр Борисович (сын Евпраксии Вульф) сам мне рассказывал: „Вот здесь моя мама гуляла с Пушкиным…“»
Оглядываем место этих прогулок поэта с «Зизи». Невысокий холм, развесистый дуб, получивший пушкинское прозвище «лукоморье», зеленые поляны. Невдалеке «солнечные часы» — лужок, в свое время окаймленный двенадцатью дубами.
Пушкин и обитательницы Тригорского вели оживленную переписку. Устные предания свидетельствуют о любопытном и прискорбном факте. Женщина-врач, лечившая еще недавно дочь Евпраксии Вульф — Софью Борисовну Вревскую, слышала от нее следующее:
«Мать моя передала мне на хранение большую пачку писем к ней Пушкина. Она завещала мне хранить их при жизни, но ни в коем случае никогда и никому не передавать их. О существовании этих писем стало многим известно, и ко мне приезжали различные ученые, прося меня предоставить им эти старые письма великого поэта к давно умершей женщине. Должна сознаться, что эти лица были очень красноречивы и убедительны. Я чувствовала, что решение мое слабеет. И вот, чтоб не поддаться окончательно их уговорам и не нарушить воли матери, я предала всю пачку писем сожжению…»
Таков один из недавних тяжелых ударов пушкинизму. Сколько живых, колоритных и характерных деталей о пребывании Пушкина в «лесах Тригорских» утрачены навсегда с исчезновением этой пачки его писем!