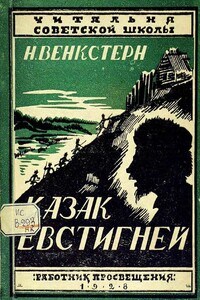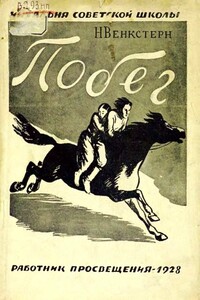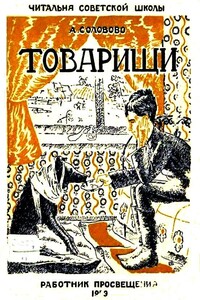Царская милость - [3]
Завопили мужики на эти слова не своими голосами:
— Как так? С одного, значит, теленка две шкуры драть. Я и солдат, я и крестьянин. Где же сил-то взять? То перед помещиком спину гнул, а теперь еще хуже: на нос начальство понасажают, да еще военное.
А бабы свое:
— Мальчишек от матерей отбирать, девок насильно замуж выдавать, постояльцев держать! Не бывать тому.
И шумят и галдят.
— Нет, ваше благородие, не нужно нам таких милостей, недоимки мы выплатим, а домов своих ломать не дадим, казенных квартир не хотим и в платье казенном не нуждаемся.
Что тут поднялось! Кричат, плачут, охают, ахают. Только и слышно: «К царю итти! Милости просить! Не допустим».
Но не тут-то было. Офицер затопал, закричал, солдаты, что с ним были, шашки повытаскали.
— Это что же? Бунт? Я вам покажу, как царскую милость принимать должно! Негодяи! Завтра половину из вас сквозь строй прогоню по зеленой роще!
Василий подошел к одному солдату и душевно ему говорит:
— Стало быть, вы тоже, братцы, палить в мужиков будете?
А тот отвернулся и говорит:
— Стало быть, будем.
На этом весь бунт наш и кончился, и к царю мы просить ни о чем не пошли, потому что дело ясное — сила солому ломит, и, по всей видимости, царь слушать бы нас не стал, а, как я теперь понимаю, нас до него и вовсе бы не допустили.
И на другой же день, с утра, пошел скрежет и плач но всей деревне. Пришли солдаты, приехали военные начальники, начали головы и бороды брить, в военное платье обряжать, избы ломать. Света не взвидели. И не люди одни. По всему Волхову лес, как траву, косили. В год река оголилась, обмелела, стала скудеть.
Горе такое, что вспоминать жутко!
Зажили мы в деревне по-новому, не крестьянами, а военными поселенцами. Здесь, на этом пригорочке, стояла наша деревенька. Месяца не прошло, как от нее и памяти не осталось; не то что дома — все кустики и деревья выкорчевали, и на место деревни вот эти самые казармы выстроили, что и поныне стоят, проклятые.
Утром, чуть свет, барабанный бой — вскакиваем, амуницию чистим. Горе, коли хоть одна пуговка не блестит как солнце: начальство изведет, замучает наказаньями. Жены мужей на ученье слезами провожали.
Описать вам, какова была жизнь, — прямо не поверите. От начальства ни отдыха, ни срока. Правило такое было, что ночью ли, днем, во всякое время он в избу зайти может и во все семейные дела вмешиваться. А начальники лютые были, должно быть, долго их зверству учили или уж таких подбирали, которые злей. Только бывало ввалится мужик в дом, отдохнуть ему охота, потянуться, сапоги скинуть — нельзя. Того гляди офицер войдет — и поднимется крик.
— Не по форме, не так стоишь!
Да это что! Пустяк! А работой донимали так, что хуже вьючной скотины всякий себя почитал.
Утром ученье, развод, стрельба, в полдень — в поле работать. Отмаешься, так нет же тебе — вечером перекличка, а ночью сиди амуницию чисти. Поднимали людей барабанным боем, на работу в строю ходили. А наказанья? Дня не проходило, чтобы кого-нибудь не били; за самую малость на хлеб и на воду сажали, запирали в карцер. Отсидит мужичок суток трое, выйдет с дурной пищи чуть живой, на ногах не стоит, а его в строй гонят.
Да, снисхожденья никакого!
Стали мужики болеть, помирать. А все молчат — сказать даже у себя в избе слова нельзя. Обязательно найдется кто-нибудь и донесет начальству. Нарочно по избам таких постояльцев насажали, которые подслушивали и сплетничали.
Ломали мужики себе головы, к чему такое дело затеяли, как ни поверни — глупость одна выходит. Какой же может выйти солдат из мужика, если он полевой работой занят? Земля ведь всю силу отнимает, она не меньше ребенка ухода требует: в летнее время ее крестьянин от зари до зари пестует, а тут все силы на ученье да на амуницию проклятую идут. Стали хозяйства наши не хуже народа скудеть; о промыслах и думать нечего: не то что в лес пойти — рыбу ловить и то некогда.
Вздумало тут еще начальство грамоте нас учить: оно бы и не плохо, против этого никто слова не скажет. Только и ученье как-то нехорошо выходило. Гнали в школу силком, учили из-под палки, запугивали, чем могли, и, понятно, ничему не научили.
Спросить ничего нельзя было, а только и втолковывали нам, что государь де великую милость вам дал, да что счастливей вас на всем свете народа нет. Ну и счастье!
Через год после того, как устроили у нас поселенья, меня и Митяя в военную школу отдали. Школа у нас тут же в деревне была. И хоть под боком у родных, а все равно что в другой стране живешь — не позволяли к своим бегать. Только по воскресеньям в строю водили на площадь, и там могли мы с родными повидаться. Не даром матери плакали, как ребят своих в кантонисты отдавали. В месяц переменились мы так, что не узнать. Кормили нас плохо, били постоянно, ученьем этим солдатским донимали. Начальник наш кричал:
— Я из вас дух мужицкий-то выбью!
Чего добивались — не пойму! Потом уже объяснили мне: и вправду, хотел царь двух зайцев разом убить: армию-то дорого держать, а поселянин и землю работает и солдат исправный: как войну объявят — армия уже готова, народ к ружью привычен.
Только не вышло из этой затеи ровно ничего, кроме слез да горя, да и крови человеческой немало пролили.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этой маленькой повести рассказывается о двух друзьях детства, двух мальчиках, выросших до революции в глухом селе. Спустя много лет друзья встретились во фронтовом госпитале в суровые годы Великой Отечественной войны. После войны они встречаются вновь. Основная тема повести — честная, принципиальная дружба, воспитание в себе смелости, мужества, качеств, необходимых людям в жизни и борьбе. Повесть «Смелые люди» написана учителем Ефимом Георгиевичем Душутиным. Это — его вторая книга, изданная в Пензе.

Рассказы и повести о моряках, о Северной Двине, о ребятах, которые с малых лет приобщаются к морскому делу. Повесть «Полярная гвоздика» рассказывает о жизни ненцев.
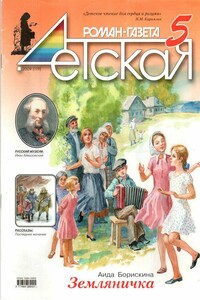
Это невыдуманные истории. То, о чём здесь рассказано, происходило в годы Великой Отечественной войны в глубоком тылу, в маленькой лесной деревушке. Теперешние бабушки и дедушки были тогда ещё детьми. Героиня повести — девочка Таня, чьи первые жизненные впечатления оказались связаны с войной.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
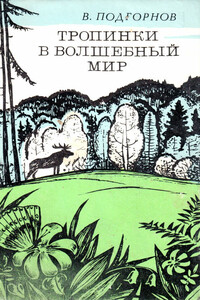
«Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней», — писал Лев Толстой. Именно так понимал счастье талантливый писатель Василий Подгорнов.Где бы ни был он: на охоте или рыбалке, на пасеке или в саду, — чем бы ни занимался: агроном, сотрудник газеты, корреспондент радио и телевидения, — он не уставал изучать и любить родную русскую природу.Литературная биография Подгорнова коротка. Первые рассказы он написал в 1952 году. Первая книга его нашла своего читателя в 1964 году. Но автор не увидел ее. Он умер рано, в расцвете творческих сил.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

История постепенного знакомства с Тибетом. Первые безуспешные попытки европейцев проникнуть в Лхассу /Ландор, Гедин, Козлов/. Временное господство Китая. Китайский погром. Независимый Тибет. Три первых путешествия в Тибет — сокращенная передача подлинных описаний Ландора, Свена Гедина и Козлова. Интересны главы, касающиеся пребывания китайцев в Тибете; новый Тибет и проникновение советских идей в такую глубь Азии, какой представлялся Тибет до сих пор. В конце краткая история Тибета и несколько слов о его будущем.

Рассказ о пионерах воздухоплавания Арктики.В состав экспедиции входили два самолета: летающая лодка «Савойя 16» и «Юнкерc-13», переставленный на поплавки. На «Савойе» летел Э. М. Лухт, на «Юнкерсе-13» — его старый боевой товарищ Ефим Михайлович Кошелев. Механиков было трое: Г. Т. Побежимов, Ф. М. Егер и В. Н. Журович.Задача экспедиции — выяснение вопроса о возможности воздушной связи острова Врангеля с мысом Северным (ныне мыс Шмидта), изучение условий полетов над малодоступными областями Заполярья и на трассе от устья Лены до Иркутска.