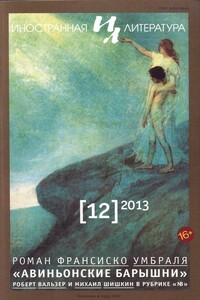«Это честный корабль».
Но бывший каторжник италиец
ударом сбил меня в носовые штаги,
(Его разыскивали за убийство в Тускии).
И все против меня, до одного, все двадцать,
Помешались на грошах, что выручат, продав его в рабство.
И вот отчалили от Хиоса
И пошли совсем другим курсом…
Но мальчик вдруг опомнился с криком
И тоскливо за борт глядел,
на восток, туда, где Наксос.
Чудо потом, воистину, чудо:
Корабль будто в землю врос в морской круговерти,
не от семени гроздья, но пены морской,
Побеги плюща на шпигате.
О да, я стоял там, я,
Акет,
а бог стоял рядом.
Вода разбивалась под килем,
Брызги волны под кормой,
кильватер, бурлящий от носа,
И где был планшир, ствол поднимала лоза,
Гроздья ее, где был такелаж,
на уключинах виноградные листья,
Буйные побеги на веслах,
И откуда ни возьмись, задышало что-то,
горячее дыхание по моим лодыжкам,
Звери, как тени в стекле,
мохнатый хвост ниоткуда,
Мурлыканье рыси, зверя запах, как вереск,
где раньше был запах смолы,
Сопение, мягкая поступь зверя,
блестящий глаз в воздухе черном.
Небо провисло, сухое, без признаков бури,
Сопение, мягкая поступь зверя,
шерсти щетка по коже моих коленей,
Шорох воздушных надкрылий,
сухие формы в эфире.
И корабль, словно на верфи,
повисший, как бык на железных стропах,
Ребра застряли в стапеле,
гроздья над кофель-планкой,
раздувшаяся шкура.
Жилами пошел неживой воздух,
кошачья поступь пантеры,
Леопарды возле шпигата, нюхающие лозы побеги,
Пантера перед прыжком у переднего люка,
И темно-синее море вокруг,
розовато-зеленые тени,
И Лиэй: «Отныне, Акет, тебе мои алтари,
Не страшась ни рабства,
не страшась ни кошек лесных,
Под защитой моих леопардов,
лозы плодами рысей питая,
виноградник взращивай мне на славу».
Вот зыби спина распрямилась в оковах руля,
Черная морда дельфина,
где был Ликабант,
Чешуя на гребцах вместо кожи.
И пал я тогда на колени.
Что я видел, то видел.
Лишь мальчика привели, я сразу сказал:
«Сдается мне, это бог,
правда, какой, не знаю».
Но они зашвырнули меня в носовые штаги.
Что я видел, то видел:
рыбьей мордой стало лицо Медонта,
Руки сморщились плавниками. И ты, Пенфей,
больше не будет тебе в жизни удачи.
Чешуя вместо кожи в паху,
рыси мурчание посреди моря…
Потом, когда-нибудь позже,
в винно-красной траве,
Если свесишься со скалы уступа,
бледное коралла лицо под легким флером волны,
Словно бледная роза под неспокойной водой,
Руки пловцов, которые сделались ветвями,
Кто скажет, в каком году,
спасаясь от стаи каких тритонов,
Чистый челом, то появляясь, то почти исчезая,
доныне застыл, как слоновая кость.
И Со-сю вспенивал море, Со-сю тоже,
лунным лучом, как мутовкой…
Струи упругие,
Посейдона мышцы,
Чернолазурная, полупрозрачная
над Тиро волна, как стекло,
Укрытие тесное, вечная зыбь,
сноп серебристоструйный.
А дальше спокойна вода,
на желтых, как кожа, спокойна песках.
Птица моря, расправляя крылья в суставах,
в заводях плещется между скал, на песчаных пляжах,
Где на отмелях стаями носятся волны,
Стеклянная вспышка волны против солнца в разрывах потока,
Гребень седой,
и волна, словно мягкая плоть винограда.