Camera lucida. Комментарий к фотографии - [14]
Таким образом, жизнь того, чье существование хоть ненадолго предшествовало нашему собственному, скрывает в своей особенности присущее Истории напряжение, ее водораздел. История истерична; она конституируется при условии, что на нее смотрят — а чтобы на нее посмотреть, надо быть из нее исключенным. Как живая душа я являюсь воплощенной противоположностью Истории, тем, кто ее опровергает и разрушает в пользу только моей истории (я не в силах поверить в «свидетелей», по меньшей мере я не могу быть одним из них; Мишле оказался неспособен практически ничего написать о своем собственном времени). Историей для меня является время, когда мама жила до меня (кроме того именно эта эпоха больше всего интересует меня в историческом плане). Никогда никакой анамнез не даст мне возможность приоткрыть завесу того времени (таково определение анамнеза) самому, в то время как глядя на фото, где она прижимает меня, маленького ребенка, к своей груди, я могу пробудить в себе воспоминание о мягкости измятого крепдешина и приятном запахе рисовой пудры.
Здесь-то и стал возникать существенный вопрос: узнавал ли я ее?
Иногда по воле этих фотографий я узнавал какую-то часть ее лица, соотношение носа и лба, движение ее рук и кистей. Всегда я узнавал ее по частям, другими словами, от меня ускользало ее бытие, следовательно, вся она целиком. То была не она и тем не менее то была не кто иная, как она. Я опознал бы ее среди тысяч других женщин, и все же я не «обретал ее вновь». Я узнавал ее среди других (différentiellement), но не узнавал сущностно. Таким образом, фотография обрекала меня на болезненную работу; устремленный к сущности ее тождества, я барахтался среди частично истинных, следовательно, тотально ложных образов. Сказать по поводу одного фото: «Это почти что она» — мне было более мучительно, нежели сказать по поводу другого: «Это совсем не она». В этом «почти что» — строгий режим любви, а также обманчивая природа сна. Вот почему я ненавижу сны. Она часто снится мне (собственно, только она мне и снится), но всегда это не совсем она; во сне в ней иногда бывает что-то неуместное, чрезмерное, к примеру, какая-то игривость или развязность — такой при жизни она не была никогда. В других случаях я знаю, что это она, но не вижу черт ее лица (что делают во сне: видят или знают?): я грежу о ней, но не ее. И перед фото, как и во сне, то же самое усилие, тот же сизифов труд: в напряжении восходить к сущности, спускаться, так и не узрев ее, и начинать все сначала.
Правда, во всех фото моей мамы было одно особое, сохранившееся место — ясность ее глаз. Тогда это был не более чем чисто физический блеск, фотографический след голубовато-зеленого цвета ее зрачков. Но и это свечение уже наводило на размышления, ведущие к сущностному тождеству, к обретению гения любимого лица. Каждое из этих фото, сколь бы несовершенны они ни были, выявляло определенное чувство, которое она, должно быть, испытывала всякий раз, когда «давала себя» снять, мама именно «соглашалась» быть сфотографированной, боясь, как бы отказ не превратился в «позицию». Она с честью выдерживала это испытание, располагаясь перед объективом (неизбежный акт) сдержанно (но без принужденной театральности, наигранной умильности или недовольства). Ибо она всегда умела заместить моральную ценность высшей ценностью — учтивостью. Она не вступала в борьбу со своим изображением, как я со своим: она просто не измышляла себя.
Один в квартире, где она незадолго до этого умерла, я продолжал одну за другой разглядывать при свете лампы фотографии моей мамы, постепенно поднимаясь с ней по течению времени в поисках истины лица, которое я любил. И я нашел ее. Снимок был очень старым. Наклеенный на картон, с обломившимися углами и выцветшей печатью, сделанной с помощью сепии — на нем с трудом можно было разобрать двух детей, стоявших рядом с деревянным мостиком в Зимнем Саду со стеклянным потолком. Маме (это был 1898 год) было тогда пять лет, ее брату — семь. На фото он опирается на перила моста, вытянув руку вдоль него, а она, меньше его ростом, стоит чуть дальше и изображена в анфас. Чувствуется, фотограф говорил ей: «Подойди ближе, чтобы тебя было лучше видно» — и она неловким жестом соединила руки, держа одной другую за палец, как часто делают дети. Брат и сестра, которых (мне было известно об этом) сблизила размолвка между родителями, — им через некоторое время предстоял развод, — позировали одни, друг рядом с другом, в просвете между листвой и тепличными пальмами (это было в доме в городке Шеневьер-на-Марне, в котором родилась моя мама).
Я присмотрелся к маленькой девочке и, наконец-то, обнаружил в ней свою маму. Не-замутненность ее лица, неловкое положение рук; поза, которую она покорно, не красуясь, но и не изображая стеснение, приняла; выражение ее лица, которое, как Добро отличается от Зла, отличало ее от истеричной девочки, жеманной куклы, разыгрывающей из себя взрослую, — все это составило фигуру суверенной невинности (если брать слово «невинность» в его этимологическом значении: «Я не умею причинять вред»), превратило позу на фотографии в невыносимый парадокс, который ей всю свою жизнь тем не менее удавалось выносить: в утверждение кротости. На этой детской фотографии я увидел ту доброту, которая сформировала ее существо сразу же и навсегда, доброту, которую она ни от кого не унаследовала. Да и каким образом подобная доброта могла исходить от ее далеких от совершенства родителей, которые к тому же не любили ее, короче говоря, от семьи? Ее доброта как раз находилась «вне игры», она не принадлежала никакой системе, располагаясь, как минимум, на границе морали (например, евангельской); я не мог бы определить ее лучше, чем с помощью (среди прочих) такой черты: за всю нашу совместную жизнь она не сделала мне ни одного замечания. Это частное обстоятельство — каким бы абстрактным оно ни казалось по отношению к снимку — присутствовало тем не менее в выражении лица, которое было у нее на только что обнаруженной фотографии. «Никакого подлинного образа — просто образ» («Pas une image juste, juste une image»), говорит Годар. Но моя печаль хотела подлинного образа, просто образа, который был бы подлинным. И таким образом стала для меня Фотография в Зимнем Саду.

Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.
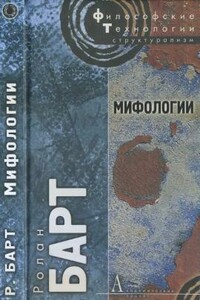
В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)
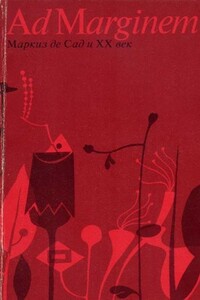
Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.

Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
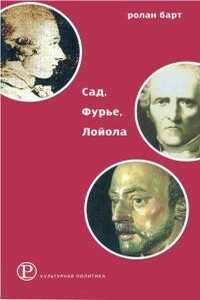
Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.http://fb2.traumlibrary.net.

Автор, кандидат исторических наук, на многочисленных примерах показывает, что империи в целом более устойчивые политические образования, нежели моноэтнические государства.
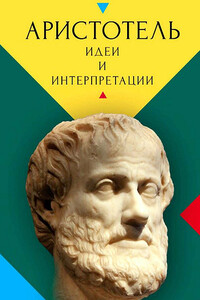
В книге публикуются результаты историко-философских исследований концепций Аристотеля и его последователей, а также комментированные переводы их сочинений. Показаны особенности усвоения, влияния и трансформации аристотелевских идей не только в ранний период развития европейской науки и культуры, но и в более поздние эпохи — Средние века и Новое время. Обсуждаются впервые переведенные на русский язык ранние биографии Аристотеля. Анализируются те теории аристотелевской натурфилософии, которые имеют отношение к человеку и его телу. Издание подготовлено при поддержке Российского научного фонда (РНФ), в рамках Проекта (№ 15-18-30005) «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности в исторической перспективе». Рецензенты: Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Репина Л.П. Доктор философских наук Мамчур Е.А. Под общей редакцией М.С.

Книга представляет собой интеллектуальную биографию великого философа XX века. Это первая биография Витгенштейна, изданная на русском языке. Особенностью книги является то, что увлекательное изложение жизни Витгенштейна переплетается с интеллектуальными импровизациями автора (он назвал их «рассуждениями о формах жизни») на темы биографии Витгенштейна и его творчества, а также теоретическими экскурсами, посвященными основным произведениям великого австрийского философа. Для философов, логиков, филологов, семиотиков, лингвистов, для всех, кому дорого культурное наследие уходящего XX столетия.
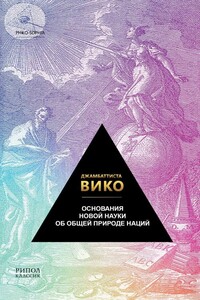
Вниманию читателя предлагается один из самых знаменитых и вместе с тем экзотических текстов европейского барокко – «Основания новой науки об общей природе наций» неаполитанского философа Джамбаттисты Вико (1668–1774). Создание «Новой науки» была поистине титанической попыткой Вико ответить на волновавший его современников вопрос о том, какие силы и законы – природные или сверхъестественные – приняли участие в возникновении на Земле человека и общества и продолжают определять судьбу человечества на протяжении разных исторических эпох.
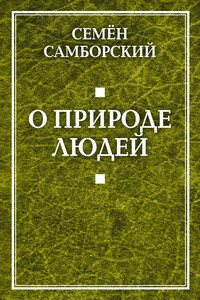
В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.

Жанр избранных сочинений рискованный. Работы, написанные в разные годы, при разных конкретно-исторических ситуациях, в разных возрастах, как правило, трудно объединить в единую книгу как по многообразию тем, так и из-за эволюции взглядов самого автора. Но, как увидит читатель, эти работы объединены в одну книгу не просто именем автора, а общим тоном всех работ, как ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Искать скрытую логику в порядке изложения не следует. Статьи, независимо от того, философские ли, педагогические ли, литературные ли и т. д., об одном и том же: о бытии человека и о его душе — о тревогах и проблемах жизни и познания, а также о неумирающих надеждах на лучшее будущее.