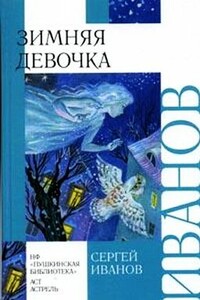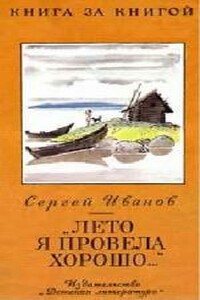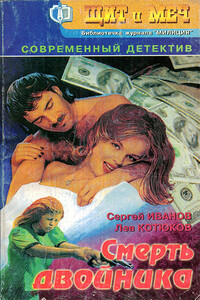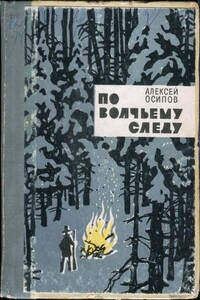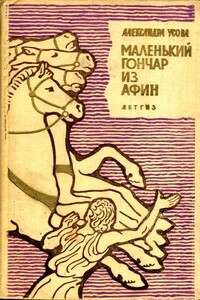Атлант… Ну давай, собирайся с духом… Однако ему было всего лишь страшно. Я должен жить, говорил он себе. И чувствовал искусственность этих слов, чувствовал, что ему страшно.
Он никак не мог представить, что вот и его не будет. То был-был, а потом не будет…
Ему было страшно, и поэтому он хотел жить. Но ведь это его не мобилизует. У страха глаза велики, а силы маленькие.
Вдруг он сообразил… Я боюсь, что меня не будет, а ведь меня так и так не будет. Прежнего меня, Филиппова Николая Петровича, не будет! Теперь уж всё! Раз я не смогу больше слесарем-сборщиком…
Он всегда любил свою работу. Но только теперь понял, чего лишается. Нестерпимо ему захотелось хоть недельку ещё походить на завод прежним Колей Филипповым. Не выходило недельку даже чисто теоретически: до операции четыре дня!
И он понял, что никогда не вернётся в свой цех. Если даже и придёт туда, то уже другим человеком: Филиппов был работяга — золотые руки, а этот… И тогда он подумал: ну, значит, пусть я умру. Я всё сделал, что мог. А больше не могу. Ни кладовщиком, ни сторожем, ни даже директором ему быть не хотелось. А слесарем-сборщиком не давала судьба…
Чушь какая — судьба! А ведь правда: именно судьба, она виновата, а я не виноват ни в чём…
Некоторое время он лежал, как бы уже всё решив. Рассматривал старые царапины на стене — непонятные какие-то иероглифы. Их оставили прежние больные. Кто они были, что с ними случилось потом, Бывший Булка не знал и знать не мог.
На секунду подумал: надо и ему оставить тут свой знак. Однако он не сделал этого — сейчас же вспомнил, что отучал от таких дел Лидку. И отучил!..
Так Бывший Булка стал думать о своей Лиде. Впрочем, он обязательно бы стал думать о ней… через полчаса, через час — обязательно!.. Разве я сделал всё? Всё, что мог? Всё, что обязан перед Лидкой? Рак — ну конечно, тут никто не виноват. А Лидка-то меньше всего! Сам уж как хочешь, но хотя бы для неё ты обязан поймать ту шпионскую клетку.
Он подумал, как Лидочке нелегко жить именно сейчас. Из-за Маринки… Маринки… А сам-то я люблю её?
Да, он её любил. Не так, как мог бы любить Женю, но… Стоп! Ты говоришь: не так? Любил её не так?..
И понял: слишком много прощал! Думал втайне от себя: «А! Неважно! Всё равно! Всё равно это Маринка, а не Женя…» Значит, в Маринкином характере есть и моя вина?
Ему вдруг вспомнилась поразившая его передача по телевизору — про австралийских аборигенов, кажется. Их оттеснили в самые дрянные места. И от этого, наверно, у них появилось какое-то невероятно наплевательское отношение к своей жизни. Так живут на вокзале: можно и на полу переспать, можно и плюнуть куда попало, можно и урну под голову — неважно, ночь перекантовался — и до свидания! А эти так жили всегда…
Теперь он подумал: неужели и я так жил?!
Не так, конечно. Но в чём-то похоже…
Значит, он обязан был остаться не только чтобы Лидке помочь вырасти, не только чтобы Маринку на ноги поставить, но чтобы и самому… Чтобы и самому стать человеком!
Нет, не всё ты сделал, Филиппов. Так что работай, старайся, выздоравливай…
Он встал, открыл свою тумбочку, взял двушки. Представил себе: вот наберёт номер и спокойно-спокойно, будто ни в чём не бывало: «Попросите Филиппову… Маринчик! Привет, это я…»
Она была совершенно одна и совершенно свободна. Шёл четвёртый день весенних каникул, было довольно раннее утро — для каникул, конечно: девять часов тридцать пять минут.
Полчаса назад она встала. Но ещё не завтракала: пошла в ванную, умылась, почистила зубы да и застряла перед зеркалом.
Чуть прищурившись, она внимательно смотрела на себя, чуть прищурившуюся и с внимательными глазами.
Ей вспомнилась Надя Старобогатова. Когда-то давно, кажется на море, — ну конечно, на море, а где же ещё! — так вот Надя сказала однажды… Они о гаданье заговорили — цыганку встретили и заговорили. Словно все цыганки непременно должны гадать!.. Ну, неважно.
И Надя говорит (причём так серьёзно), что линии на руке одни бывают плохо прочерчены, другие хорошо. Но всё равно по ним узнать кое-что можно.
А Лиде странно сделалось: «Ты разве в это веришь?» Надя в ответ одно плечо неопределённо так подняла…
Теперь, глядя на себя, Лида вдруг подумала — и ей жаль стало, что Наде этого уже не скажешь! — она подумала: а может, лучше гадать по морщинам на лице? Морщины уж не наврут… Она сейчас увидела у себя меж бровями бледный восклицательный знак — морщинку.
Морщины. Считается, их нет у… ну, у детей.
Но они есть!.. Если приглядеться.
* * *
Так утро и промелькнуло: в неодетом, непричёсанном хождении по запущенной квартире. И вот теперь ей приходилось торопиться. Она опаздывала на свидание. Вернее, её позвали в кино. Но ведь потом погулять всё равно хоть немного, а придётся. Значит, свидание и есть.
Она торопилась и в то же время ей не хотелось торопиться. Потому что свидание было с тем самым малозначительным типчиком, которому даже имени нет в этой книжке (и который — помните? — преследовал однажды в парке её отца, Бывшего Булку). Но столько раз она его обманывала и унижала, а он, пообижавшись недельку, так преданно продолжал к ней приставать, что, когда он позвонил в очередной, сто тысяч восемьсот сорок девятый раз, Лида наконец сказала, что ладно, хорошо, только ненадолго. Долго она и вправду не могла, потому что ей сегодня надо было идти к батяньке.