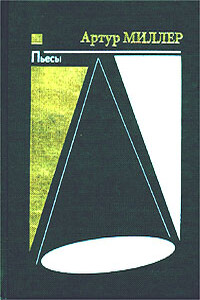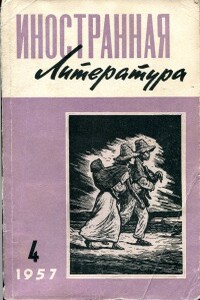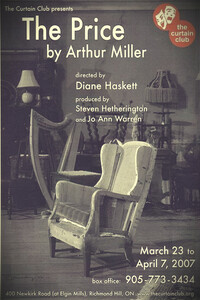Процессия — в ней преобладали деловые знакомые Макса — снова двинулась к автомобилям, даже не интересуясь, кто это такой. Людей собралось много, и толпа в молчании тянулась к железным воротам кладбища. Замыкал шествие мистер Сионе, на которого, как водится, никто не обращал внимания. Доктор Леви обменялся с ним печальным кивком, и они пошли вместе: один — прямой, широкогрудый, другой — сутулый, тяжело переставлявший ноги, точно бредя по пояс в воде. Когда я оглянулся, меня поразило их явное сходство, их близость; над тишиной кладбища, над всхлипами женщин, над шарканьем подошв звучал звонкий фальцет:
— Он стоял у самой воды… Я не мог поверить собственным глазам… Переступил с ноги на ногу и повалился…
Мистер Сионс слушал внимательно, и лицо доктора Леви светилось благодарностью. Сионсу тоже льстило, что с ним так серьезно разговаривает врач, ученый человек, к тому же избавивший его от одиночества. По-профессорски заложив руки за спину, он клонил голову к крошечному горбуну и вежливо кивал.
Осенью я уехал, так и не рискнув поговорить с Вирджинией о «бьюике». Завести с ней этот разговор было тем более трудно оттого, что каждый вечер на кирпичное крыльцо выходила Ева и смотрела в сторону кладбища, которое находилось за спортплощадкой. Она смотрела туда неотрывно, до темноты, и что самое странное — совершенно сухими глазами, хотя при жизни Макса глянуть на своего сына без слез не могла. И еще долгие годы, если на нашу улицу вечером сворачивал автомобиль, особенно на малой скорости, она молча наблюдала, как он подъезжает, потом поворачивалась к нему спиной и уходила в дом.