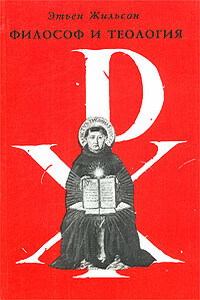Бытие и сущность - [3]
Слово etre (быть, существовать; сущее) можно понять либо как глагол, либо как имя. В качестве глагола оно обозначает сам факт, что нечто есть; в качестве имени — un etre, «сущее», т. е. одну из тех вещей, о которых говорят, что они есть. Такая двойственность присуща не всем индоевропейским языкам и даже не всем романским. Терпимая в итальянском, где возможно говорить об essere (быть, существовать) и об un essere (сущем) (хотя пуристы предпочитают употреблять ente вместо essere в именном значении), она не существовала ни в ученой латыни, где со времен Боэция глагол esse четко отличался от имени ens, ни в греческом, где невозможно было спутать είναι (быть) и το δν (сущее). И сегодня ее нет в английском, где глагол to be не менее четко отличается от имени being.
Французский философский язык, по-видимому, вначале колебался. Будучи наследником схоластической латыни, он, должно быть, затруднялся передавать ens словом etre. Поэтому в XVII в. некоторые авторы предпочли ему искусственно созданное имя étant (сущее). Сципион дю Пле в своей «Метафизике», изданной под редакцией автора в 1617 г., озаглавил книгу II: Qu'est-ce que l'étant? («Что есть сущее?»). Отметив, что это причастие, соответственно своему названию, причастно как природе глагола, так и природе имени, он добавляет: «Однако философы обозначают словом étant чистое имя, подразумевая под ним любую вещь, которая действительно, истинно и фактически есть, — как, например, ангел, человек, металл, камень, и т. д.».
Неологизм étant не получил распространения даже в философском языке. Этот факт вызывает сожаление не только потому, что термин étant точно соответствовал ens, но и потому, что он позволил бы избежать двусмысленности слова etre. Ha первый взгляд, в такой двусмысленности нет ничего опасного. Можно даже предположить, что, поскольку именная форма здесь появилась из формы глагольной, в конечном счете возобладало именно глагольное значение. Все наши словари сходятся в том, что имя etre обозначает «все то, что есть». Как и вытесненное им причастие étant, имя etre в первую очередь указывает (если воспользоваться выражением Сципиона дю Пле) на «то, что действительно и фактически есть, поскольку оно есть действительно и фактически». И это совершенно естественно. В «том, что есть», важнейшим и первостепенным является сам факт, что оно есть. Именно потому оно и называется etre, что, если бы его не было, оно не могло бы быть еще чем-то. То, чего нет, не может быть «тем, что…» Говоря точно, оно есть ничто.
Однако взаимное отношение двух слов может быть определено противоположным образом. Вместо того, чтобы считать, что «быть сущим» значит «быть», мы имеем право думать, что «быть» значит «быть сущим». Думать так даже легче, ибо во всем «том, что есть», нам гораздо легче ухватить то, что оно есть, чем голый факт существования. Если уступить этой склонности, то очень скоро etre смешается с étant. Etre, взятое в качестве имени, настолько поглощает то же самое слово, взятое в качестве глагола, что etre un etre (быть сущим) и просто etre (быть) сливаются. В самом деле, если χ есть сущее потому, что χ есть, то высказывание «х есть сущее» на первый взгляд представляется равнозначным высказыванию «х есть». Но они далеко не равнозначны. Именно здесь яснее всего обнаруживается двойственность слова «быть». Ибо если верно, что χ есть, то верно и то, что х есть сущее; однако перевернуть это высказывание можно, только если ввести одно важное различение. А именно: из того, что χ есть сущее, еще не следует тот непосредственный вывод, что χ есть — разве что в том неопределенном и весьма отличном от исходного смысле, что χ есть в возможности или в действительности. Вот почему сам язык проявляет здесь ту же неуверенность, что и мышление, и потому спонтанно дублирует глагол «быть» другим глаголом, принимающим на себя именно ту функцию обозначения существования, которая изначально принадлежала глаголу «быть» и которую он постелен но утрачивал.
Во французском языке такую роль взял на себя глагол exister (существовать). Язык, в котором одна и та же словесная форма означает «быть» и «быть сущим», почти неизбежно должен был выделить особую глагольную форму для выражения той мысли, что некое сущее не просто есть «сущее», но существует. Вот почему когда хотят по-французски выразить сам факт бытия и при этом избежать возможной двусмысленности, то не говорят, что сущее «есть», но что оно «существует» (existe). Примечательно, что тот же феномен обнаруживается в английском языке, хотя и не столь явно. Конечно, спутать to be и being нельзя; однако глагол так крепко привязан к своей функции связки, так часто употребляется для обозначения некоторого признака, что его чисто глагольное употребление сопровождается ощущением некоторой недостаточности. Поэтому нередко в английской фразе он спонтанно дублируется другим глаголом, как бы для уточнения той мысли, что его используют именно в смысле «существовать» (смысле, принадлежащем ему по праву!). По-видимому, этим объясняется высокая частотность формул типа:

Предлагаемые четыре лекции затронут лишь один аспект высочайшей из всех метафизических проблем и рассмотрят его на основе весьма ограниченного числа исторических фактов, которые принимаются как нечто само собой разумеющееся, не требующее особого обоснования. Эта проблема есть метафизическая проблема Бога. Для обстоятельного исследования нами выбран особый аспект: связь между нашим понятием Бога и доказательством Его существования. Подход к этому философскому вопросу — тот же самый, о котором я уже говорил в «Единстве философского опыта» (The Unity of Philosophical Experience, Scribner, New York, 1937) и «Разуме и откровении в Средние века» (Reason and Revelation in the Middle Ages, Scribner, New York, 1938)
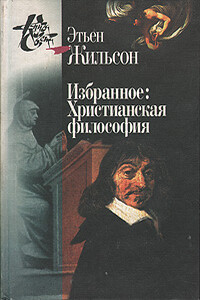
Этьен Жильсон (1884–1978) — один из виднейших религиозных философов современного Запада, ведущий представитель неотомизма. Среди обширного творческого наследия Жильсона существенное место занимают исследования по истории европейской философии, в которых скрупулезный анализ творчества мыслителей прошлого сочетается со служением томизму как величайшей философской доктрине христианства и с выяснением вклада св. Фомы в последующее движение европейской мысли. Интеллектуальную и духовную культуру «вечной философии» Жильсон стремится ввести в умственный обиход новейшего времени, демонстрируя ее при анализе животрепещущих вопросов современности.

Предмет нашего исследования, благодаря своим, внутренне присущим ему достоинствам, не только не нуждается в особых рекомендациях, но и дает наиболее благоприятную возможность осуществить ту важную часть университетского преподавания, которая заключается в критике общепринятых мнений...Но мы можем попытаться представить если не детальное описание семи столетий, отданных абстрактной спекуляции, то, по крайней мере, дать зарисовку основных направлений духовной жизни, которые привели к созданию столь обильной средневековой философской и теологической литературы.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.