Былое Иакова - [3]
2
Иногда он даже считал лунного странника своим прадедом, что, однако, решительно выходит за пределы возможного. Да он и сам отлично знал из всяческих наставлений, что все это дела более давние. Не такие, однако, давние, чтобы тот владыка земной, чьи пограничные, со знаками зодиака столпы оставил позади себя странник из Ура, был и в самом деле Нимродом, первым царем на земле, породившим синеарского Бела. Судя по таблицам, это был законодатель Хаммурагаш, обновивший упомянутые города Луны и Солнца, и если юный Иосиф отождествлял его с древнейшим Нимродом, то это была игра мыслей, которая придавала Иосифу известную прелесть, но нам совсем не к лицу. Точно так же он порой путал урского странника с дедом своего отца, носившим то же или почти то же имя. Между мальчиком Иосифом и странствием его духовного и физического предшественника был, согласно времяисчислительным выкладкам, отнюдь не чуждым ни его эпохе, ни его культуре, промежуток поколений в двадцать, то есть примерно в шестьсот вавилонских солнечных лет — такой же, как между нами и готическим средневековьем — такой же и все-таки не такой же.
Хотя время по звездам мы отсчитываем в точности так же, как там и тогда, то есть как отсчитывали его задолго до урского странника, и хотя мы, в свою очередь, передадим этот счет самым далеким нашим потомкам, значение, вес и насыщенность земного времени не бывают одинаковы всегда и везде; у времени нет постоянной меры даже при всей халдейской объективности его измерения; шестьсот лет тогда и под тем небом представляли собой нечто иное, чем шестьсот лет в нашей поздней истории; это была полоса более спокойная, более тихая, более ровная; время было менее деятельно, в ходе его не так сильно, не так резко менялись вещи и мир, — хотя, конечно, за эти двадцать человеческих веков оно произвело очень существенные изменения и перевороты, даже перевороты в природе, изменившие земную поверхность в поле зрения Иосифа, как то известно нам и было известно ему. В самом деле, куда девались к его времени Гоморра и резиденция Лота, человека из Харрана, вступившего в близкое родство с урским искателем, — Содом, куда девались эти сластолюбивые города? Щелочное, свинцово-серое озеро разливалось там, где процветало их беззаконие, ибо на местность эту обрушился такой страшный, такой на вид всегубительный ливень смолы и серы, что дочери Лота, вовремя с ним бежавшие, те самые, которых он хотел выдать похотливым содомлянам взамен неких высоких гостей, — что они, вообразив, будто кроме них не осталось людей на земле, в женской своей заботе о продолжении рода человеческого совокупились с собственным отцом.
Вот, значит, какие зримые преобразования эти века все же произвели. Бывали времена благословенные и недобрые, изобилие и недород, бушевали войны, менялись правители, появлялись новые боги. И все-таки в целом то время было консервативней, чем наше, — образом жизни, складом ума и привычками Иосиф куда меньше отличался от своего предка из Ура, чем мы от рыцарей крестовых походов; воспоминания, основанные на устных, передававшихся из поколения в поколение рассказах, были непосредственнее, интимнее и вольнее, а время однороднее и потому обозримее; короче говоря, юного Иосифа нельзя было осуждать за то, что он мечтательно уплотнял время и порой, в часы меньшей собранности ума, например, ночью, при лунном свете, считал урского странника дедом своего отца — причем этой неточностью дело даже не ограничивалось. Вероятно, добавим мы теперь, этот пращур вовсе не был в действительности выходцем из Ура. Вероятно (днем, в часы ясности, это казалось вероятным и юному Иосифу), этот урский предок вообще не видел лунного города Уру, ибо ушел оттуда на север, в Харран, что в земле Нахарин, еще его отец и, значит, тот, кто ошибочно назван выходцем из Ура, отправился в землю аморреев, как то указал ему владыка богов, всего только из Харрана, вместе с тем осевшим позднее в Содоме Лотом, которого родовое предание мечтательно объявило сыном брата урского странника на том основании, что Лот был «сыном Харрана». Разумеется, содомлянин Лот был сыном Харрана, коль скоро он, как и урский предок, там родился. Но, если Харран, город Дороги, превращали в брата, а прозелита Лота соответственно в племянника урского предка, то это была, конечно, чистейшая игра мечтательного воображения, невозможная при дневном свете, но способная объяснить, почему юному Иосифу так легко давались эти замены.
Он делал их с такой же спокойной совестью, с какой, например, синеарские звездочеты и жрецы, соблюдавшие в своих гаданьях правило равнозначности светил, заменяли одно небесное тело другим, например, Солнце, когда оно заходило, планетой Нинурту, влияющей на государственные и военные дела, или планету Мардук созвездием Скорпиона, называя в таких случаях это созвездие просто «Мардуком», а Нинурту «Солнцем», он делал это ради практического удобства, ибо его желание установить начало событий, к которым он себя приобщал, встречало ту же помеху, с какой всегда сталкивается такое стремление: помеха состоит в том, что у каждого есть отец, что ни одна вещь на свете не появилась сама собой из ничего, а любая от чего-то произошла и обращена назад, к своим далеким первопричинам, к пучинам и глубинам колодца прошлого. Иосиф, конечно, знал, что и у отца урского странника, у истинного, стало быть, выходца из Уру, тоже наверняка был отец, с которого, значит, в сущности и начиналась его, странника, личная история, а у того отца — свой отец, и так далее, хотя бы вплоть до Иавала, сына Ады, до праотца живущих в шатрах и разводящих скот. Но ведь уход из Синеара был и для Иосифа только условным и частным началом, и благодаря песням и учению он прекрасно представлял себе, какие общие события этому началу предшествовали и через какое множество историй восходили они к Адапе или Адаме, первому человеку, который, согласно одной лживой вавилонской поэме, — куски ее Иосиф знал даже наизусть, — был сыном Эй, бога мудрости и водных глубин, и служил богам пекарем и виночерпием, но о котором у Иосифа имелись более священные и более точные сведения; к саду на Востоке, где стояли два дерева — древо жизни и нечистое древо смерти; к самому началу, когда мир, небо и землю сотворило из тоху и боху Слово, что носилось над водою и было богом. Но разве и это не было только условным и частным началом вещей? Ведь уже тогда восхищенно и удивленно взирали на творца разные существа: сыны бога, звездные ангелы, о которых Иосиф знал много любопытных и даже веселых историй, и гнусные демоны. Они остались, значит, еще от той предыдущей вечности, что, одряхлев, превратилась в неотесанное тоху и боху, — но была ли она началом начал?
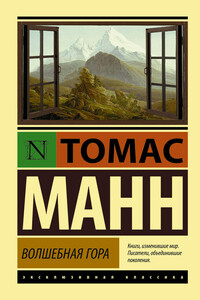
«Волшебная гора» – туберкулезный санаторий в Швейцарских Альпах. Его обитатели вынуждены находиться здесь годами, общаясь с внешним миром лишь редкими письмами и телеграммами. Здесь время течет незаметно, жизнь и смерть утрачивают смысл, а мельчайшие нюансы человеческих отношений, напротив, приобретают болезненную остроту и значимость. Любовь, веселье, дружба, вражда, ревность для обитателей санатория словно отмечены тенью небытия… Эта история имеет множество возможных прочтений – мощнейшее философское исследование жизненных основ, тонкий психологический анализ разных типов человеческого характера, отношений, погружение в историю культуры, религии и в историю вообще – Манн изобразил общество в канун Первой мировой войны.
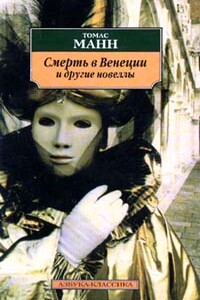
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
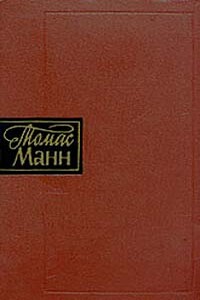
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
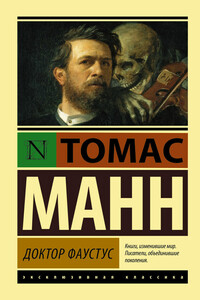
«Доктор Фаустус» (1943 г.) — ключевое произведение Томаса Манна и одна из самых значительных книг ХХ века. Старая немецкая легенда о докторе Иоганне Фаустусе, продавшем душу дьяволу не за деньги или славу, а за абсолютное знание, под пером Томаса Манна обретает черты таинственного романа-притчи о молодом талантливом композиторе Леверкюне, который то ли наяву, то ли в воображении заключил сходную сделку с Тьмой: каждый, кого полюбит Леверкюн, погибнет, а гениальность его не принесет людям ничего, кроме несчастий.Новая, отредактированная версия классического перевода с немецкого Соломона Апта и Наталии Ман.
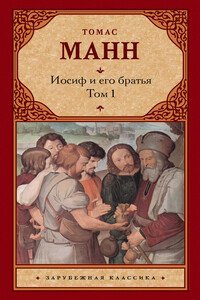
«Иосиф и его братья» – масштабная тетралогия, над которой Томас Манн трудился с 1926 по 1942 год и которую сам считал наиболее значимым своим произведением.Сюжет библейского сказания об Иосифе Прекрасном автор поместил в исторический контекст периода правления Аменхотепа III и его сына, «фараона-еретика» Эхнатона, с тем чтобы рассказать легенду более подробно и ярко, создав на ее основе увлекательную историческую сагу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
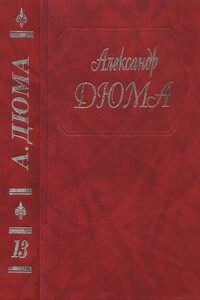
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
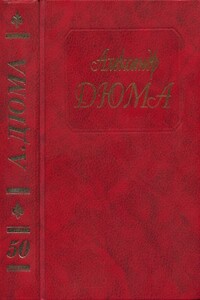
В этом томе предпринята попытка собрать почти все (насколько это оказалось возможным при сегодняшнем состоянии дюмаведения) художественные произведения малых жанров, написанные Дюма на протяжении его долгой творческой жизни.
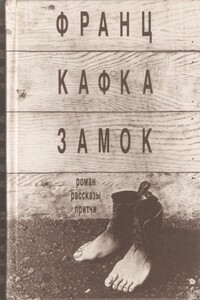
Франц Кафка. Замок. Роман, рассказы, притчи. / Сост., вступ. статья Е. Л. Войскунского. — М.: РИФ, 1991 – 411 с.В сборник одного из крупнейших прозаиков XX века Франца Кафки (1883 — 1924) вошли роман «Замок», рассказы и притчи — из них «Изыскания собаки», «Заботы отца семейства» и «На галерке», а также статья Л. З. Копелева о судьбе творческого наследия писателя впервые публикуются на русском языке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
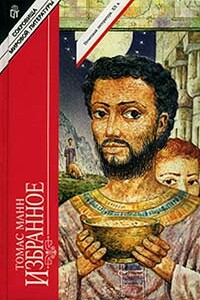
Известный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1929), Томас Манн (1875—1955) создал монументальные произведения, вошедшие в золотой фонд мировой литературы. Одним из таких произведений является роман-миф об Иосифе Прекрасном. Отталкиваясь от древней легенды, Томас Манн говорит о неизбежности победы светлого разума и человечности над нравственным хаосом. Роман-тетралогия об Иосифе и его братьях отличается эпическим размахом и богатством фактического материала.
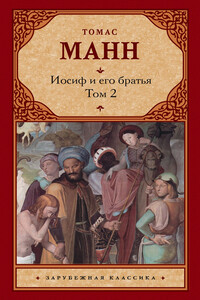
«Иосиф и его братья» – масштабная тетралогия, над которой Томас Манн трудился с 1926 по 1942 год и которую сам считал наиболее значимым своим произведением.Сюжет библейского сказания об Иосифе Прекрасном автор поместил в исторический контекст периода правления Аменхотепа III и его сына, «фараона-еретика» Эхнатона, с тем чтобы рассказать легенду более подробно и ярко, создав на ее основе увлекательную историческую сагу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.