Булгаковиада - [23]
Начало традиции было положено однажды в Москве, в коммунальной квартире на Покровке, где рос и воспитывался будущий артист Б., лелеемый его чудесной мамой, которая в свободное от Баса время составляла «Словарь языка Пушкина».
Кухня, где родилась добрая традиция, по летнему времени была свободна от соседей, но к трапезе, а равно и к выпивке проявляли острый интерес рыжие тараканы, ведь в те времена Басик наведывался в Москву лишь изредка, а его дочка Ксюша там еще не жила.
Но тут, на даче в Репино, посреди трудного лета, в присутствии Гали, которая так славно готовит цыпленка, не говоря уже о ее музыкальных телепередачах «Царская ложа» и многих, многих других, здесь, по окончании работ над ролью Воланда, с одной стороны, и новой книгой – с другой, здесь, в виду деревьев, цветов и ягодных самобранок, встреча обретала другой колорит.
Р. и Б. начали есть цыпленка, и Олег не выдержал и стал показывать прямо за столом, как он ел того, другого цыпленка, репетируя тридцать два года назад, и сделал это так хорошо, что Р., который собрался наконец уехать в село Михайловское, чтобы писать эту историю, был искренне тронут и соблазнен: как глубоко застряла в Басике славная роль и как неисправима щедрая актерская природа…
– Ты понимаешь, – сказал Бас, – он отвлек меня от внутренней задачи и занял другими делами.
– Он вывернул тебя, как чулок, – сказал Р. – Спрятал второй план за первым…
– Но я все время видел перед собой Сережу. Был между двух огней…
– Это был Сережин спектакль, – сказал Р. – По всем приметам… А главное – по выбору.
– Ну конечно, – сказал Бас. – Но тогда он на меня обиделся…
– Это был не Гогин выбор, – сказал Р. – И не Дины Шварц. Но молодцы, что они согласились… Где-то перед вашей премьерой я был у Дины, входит Гога, и она говорит: «Георгий Александрович, вы еще придете на “Мольера”? Надо помочь Юрскому с финалом». А он говорит: «Нет. Пусть Сережа справляется сам». Показал, как он может, и отошел в сторону…
– Вот как? – сказал Бас. – Это интересно…9
Монахов тоже держался в стороне.
Первое лицо театра, назначен на заглавную роль и стоит в стороне…
Что же это? Деликатность или осторожность? Вот вопрос, который мучил артиста Р.
Если бы «Мольера» прочел Николай Федорович, это было бы даже лучше, чем Булгаков. Лучше для судьбы спектакля. К выраженной прямо позиции прислушался бы еще кто-нибудь, хоть двое или трое, и тогда за «Мольера» было бы большинство.
Но Монахов почему-то держался в стороне…
Он пришел в театр будто случайно, будто забыл книгу в гримерке и задержался, читая. Но он и не думал ее читать. Он приносил в театр только те книги, которые производили нужное впечатление обложкой, и эта была такая, с серпом и молотом. Пока шла катавасия, он сидел в своем кресле и ждал, чем она кончится. Догадывался, конечно, но ждал.
Монахов смотрел в зеркало и видел, каким будет его Мольер.
Тут и Маковецкого не надо было звать, хотя он привык с ним работать.
Сначала он называл его Сергеем Марсельевичем, потом Сергеем, потом Сережкой. Когда Маковецкий завел казацкие усы, Монахов стал дразнить его Бульбой. А однажды, после удачной выпивки с французским коньяком, приклеил мастеру грима женское имя Марселина и этой манере не изменял.
Правда, такое панибратство Монахов позволял себе только за закрытой дверью, а выглядывая в коридор и призывая мастера, раздельно и вкусно выговаривал имя-отчество…
– Сергей Марсельевич!..
Николай Федорович почему-то знал, что Мольер терпеть не может парика. Знал не из книг. То есть когда Жан-Батист на сцене Пале-Рояля и играет роль, он прикроет голову чем-нибудь, что подберет Марселина. Но «за кулисами» – только со своим лицом, только. Начесать волосы на лоб и запустить виски…
Разумеется, в королевских покоях – в белых буклях, по форме, а так…
– Отстань, Марселина!
Он представил себе сцену с Бутоном в четвертом акте, она с первой читки сделалась сладкой приманкой.
– Тиран, тиран, – скажет он в отчаянье, но совсем просто, как будто объясняя, и зал замрет, замрет…
Мало ли что он будет думать в это мгновенье, кого себе представлять и ненавидеть… Об этом они и не догадаются!.. Не посмеют догадаться!.. И Софронов-Бутон так и спросит: «Про кого это вы?..» А я отвечу: «Про короля Франции». «Молчите!» – крикнет он. А я свое: «Про Людовика…» И опять просто-просто: «Тиран…»
У Монахова зашевелились губы, и там, в глубинах старого зеркала, он увидел рябую рожу и ненавистные усы…
Только страх рождает такую ненависть, а с недавних пор его временами тошнило от страха…
Никто не узнает, никто и никогда, как он ненавидел эту братию, эту гнусную большевистскую Кабалу, в которую попал…
По ошибке, по непростительной глупости!
Вон Шаляпин, умница, не застрял, не засиделся и поет на весь мир!.. Правда, у него голос повыше моего, стало быть, другие возможности. А я куплен за гроши… Нашивками и орденами… Посиделками за красным столом!.. Куплен, конечно, но продана одна шкура, только шкура, а душа – свободна и готова лететь!..
И тут в гримерную, едва постучав, закатился директор Шапиро. Не поднимая глаз, он обошел Монахова со спины, сел на диван и поджал губы.

Творческая биография Владимира Рецептера много лет была связана с БДТ и его создателем Г.А. Товстоноговым. Эта книга — о театре, об актерах, имена которых (И. Смоктуновский, О. Борисов, С. Юрский, О. Басилашвили, П. Луспекаев) вызывают и благоговение, и живейший интерес: какие они, кумиры? Что происходит в закулисье? Успехи и провалы, амбиции и подозрения, страсти и интриги — все как в жизни, но только более емко и выпукло, ведь это — ТЕАТР.
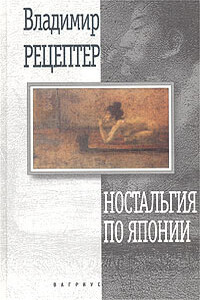
Жизнь игра, а люди актеры — затасканная фраза. Но ведь актеры — люди, они живут, встречаются, умирают, ссорятся. Про всё это повестьВладимир Эммануилович Рецептер долгое время играл в Большом Драматическом Театре, в тот самый момент, когда им руководил Георгий Товстоногов, а его правой рукой была Дина Шварц. Но время течет и Рецептер ушел, а уйдя стал писать воспоминания, как хорошо ему было в театре.В повести 3 части — 3 истории:1 часть — повествует про актерскую семью Алексеевых, об их жизни и их закате, в доме для ветеранов сцены на Петровском, 13, о том, как супруги путешествовали по городам и весям.2 часть «Хроника юбилейного спектакля».
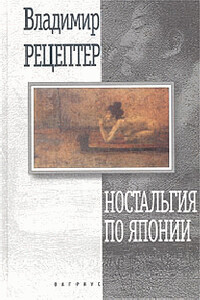
Владимир Рецептер - необычайно разносторонняя личность: актер, чья творческая биография долго была связана с БДТ и его великим создателем Г.А.Товстоноговым, режиссер, поэт, литературовед-пушкинист. И автор интересной художественной прозы о театре, где герои (всем известные, действующие и под своими собственными, и под вымышленными именами) живут, не различая, где `кончается искусство`, а где начинается `почва и судьба`. Театр дает неисчерпаемый материал для писателя: страсти и интриги, амбиции и неудачи, дружба и предательство, любовь и ненависть, зависть к таланту и искреннее благоговение перед ним..

«…Попадание в одну палату двух бывших Гамлетов, двух бывших артистов БДТ, двух пациентов со слуховыми аппаратами в ушах иначе как «странным сближением», вслед за Пушкиным, не назовешь. Но именно эти обстоятельства отметили новоявленные соседи, ощутив друг к другу неподдельный взаимный интерес. «Два Гамлета, два гренадера…» – мелькнуло в голове артиста Р. на знакомый мотив, и он подумал, что среди многолюдной актерской братии те, кому выпало сыграть роль принца Датского, составляют некое сообщество, что-то вроде ордена, все члены которого связаны тайной ревностью и высокой порукой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
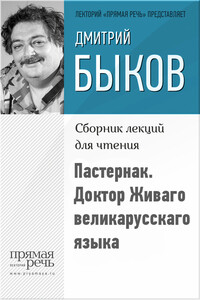
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.
