Будущее ностальгии - [27]
Тем не менее, когда глобальный динозавр пересаживается за пределы своей американской родины, ностальгическая техно-пастораль приобретает иное значение. Просматривая российские газеты от августа 1999 года, я наткнулась на заголовок «Агония динозавров». Это, однако, было вовсе не продолжение «Парка Юрского периода», а повествование о недавнем политическом кризисе, недавних перестановках в администрации Ельцина и назначении нового премьер-министра — Владимира Путина. Другие культуры не так одержимы доисторическими или футуристическими видениями. Годзилла — исторический монстр, который позволил Японии заговорить о травме Второй мировой войны — атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, сублимируя как позор, так и вину. В Советском Союзе нет эквивалента динозаврам или Годзилле (не считая олимпийского мишки 1980‑х годов); на самом деле после распада сталинизма детские монстры были миниатюрами, а не гигантами. В знаменитом стихотворении женственная Муха-цокотуха и ее храбрый друг — комарик побеждают паука с внушительными сталинскими усами. После периода диктатуры контркультурные тенденции тяготеют к миниатюризации, а не к гигантомании.
В конце 1990‑х годов на московском рынке доминировали два типа фантастических ностальгических существ: игрушечные динозавры и изображения московского покровителя святого Георгия, поражающего змея, — эмблема, выбранная мэром Лужковым для празднования 850-летия Москвы. Прав ли был Умберто Эко, отмечая, что мы движемся в направлении нового средневековья с использованием самых передовых технологий? Будем надеяться, что битва между двумя культурами — глобализированной и локальной — в новом веке, быть может, будет вестись между глобальными динозаврами и местными змеями в виртуальном пространстве.
Глава 4
Реставрирующая ностальгия: конспирология и возвращение к истокам
Я не буду предлагать чудо-препарат от ностальгии, хотя поездка в Альпы, опиум и пиявки могут облегчить симптомы. Быть может, именно тоска и есть то, что роднит всех людей между собой, но это не мешает нам рассказывать совершенно разные истории о принадлежности и непринадлежности. На мой взгляд, два разных вида ностальгии характеризуют отношение к прошлому, к воображаемому сообществу, к дому, к собственному самоощущению: реставрирующая (restorative) и рефлексирующая (reflective). Они не объясняют природу тоски, ее психологическую составляющую и бессознательные подводные течения; скорее, они касаются того, как мы понимаем нашу, казалось бы, невыразимую тоску по родине, и того, как мы рассматриваем наши отношения с коллективным домом. Другими словами, меня интересует не только внутренний мир человеческой души, но и взаимосвязь между индивидуальным и коллективным воспоминанием. Психиатр не будет знать, что делать с ностальгией; экспериментальный арт-терапевт, напротив, может оказаться здесь более компетентным.
Два вида ностальгии — это не абсолютные типы, а скорее тенденции, способы придать форму и смысл тоске. Реставрирующая ностальгия делает акцент на νόστος и предлагает восстановить утраченный дом и заполнить пробелы в памяти. Рефлексирующая ностальгия обитает в сфере algia, в тоске и потере, в несовершенном процессе припоминания. Первая категория ностальгирующих не считает себя таковыми; они считают, что их проект связан с истиной. Такая ностальгия характеризует национальные и националистические возрождения по всему свету, которые участвуют в антимодернистском мифотворчестве — создании истории посредством возвращения к национальным символам и мифам, а иногда и путем обмена конспирологическими теориями заговора. Реставрирующая ностальгия проявляется в последовательных воссозданиях памятников прошлого, а рефлексирующая ностальгия концентрируется на руинах, патине времени и истории, на мечтах об иных местах и иных временах.
Для точного определения реставрирующей ностальгии важно различать реальные традиции прошлого и отреставрированные традиции прошлого. Эрик Хобсбаум[137] обозначает различия между подлинными вековыми «обычаями» и «выдуманными традициями» XIX столетия. Подлинные обычаи, в рамках которых существовали так называемые традиционные общества, вовсе не были неизменными и консервативными по своей природе: «Обычай в традиционных обществах имеет двойную функцию — двигателя и тянущего винта… обычаи не могут быть неизменными, потому что даже в традиционных обществах жизнь таковой не является»[138].
С другой стороны, воссозданная или придуманная традиция относится к «множеству практик, обычно регулируемых откровенно или молчаливо принятыми правилами и ритуалами символической природы, которые стремятся внедрить определенные ценности и нормы поведения путем повторения, которое автоматически подразумевает преемственность по отношению к прошлому». «Новые» традиции характеризуются более высокой степенью символической формализации и ритуализации, чем подлинные народные обычаи и конвенции, после которых они были превращены в шаблон. Вот два парадокса. Во-первых, чем быстрее и шире темпы и масштабы модернизации, тем более консервативными и неизменными становятся новые традиции. Во-вторых, чем сильнее риторика преемственности по отношению к историческому прошлому и акценты на традиционных ценностях, тем более избирательно представлено само прошлое. «Новизна выдуманной традиции» — «не менее новая для того, чтобы легко рядиться в одежды старины»

Известный историк науки из университета Индианы Мари Боас Холл в своем исследовании дает общий обзор научной мысли с середины XV до середины XVII века. Этот период – особенная стадия в истории науки, время кардинальных и удивительно последовательных перемен. Речь в книге пойдет об астрономической революции Коперника, анатомических работах Везалия и его современников, о развитии химической медицины и деятельности врача и алхимика Парацельса. Стремление понять происходящее в природе в дальнейшем вылилось в изучение Гарвеем кровеносной системы человека, в разнообразные исследования Кеплера, блестящие открытия Галилея и многие другие идеи эпохи Ренессанса, ставшие величайшими научно-техническими и интеллектуальными достижениями и отметившими начало новой эры научной мысли, что отражено и в академическом справочном аппарате издания.
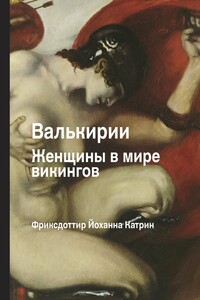
Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.
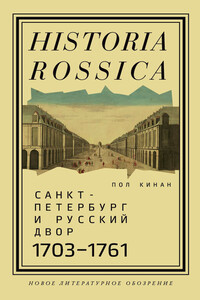
Основание и социокультурное развитие Санкт-Петербурга отразило кардинальные черты истории России XVIII века. Петербург рассматривается автором как сознательная попытка создать полигон для социальных и культурных преобразований России. Новая резиденция двора функционировала как сцена, на которой нововведения опробовались на практике и демонстрировались. Книга представляет собой описание разных сторон имперской придворной культуры и ежедневной жизни в городе, который был призван стать не только столицей империи, но и «окном в Европу».
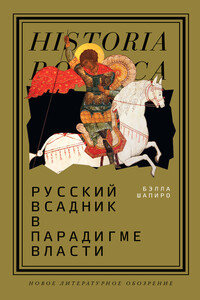
«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.
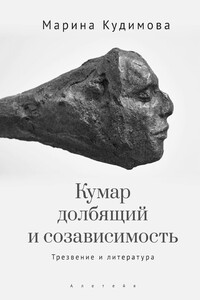
Литературу делят на хорошую и плохую, злободневную и нежизнеспособную. Марина Кудимова зашла с неожиданной, кому-то знакомой лишь по святоотеческим творениям стороны — опьянения и трезвения. Речь, разумеется, идет не об употреблении алкоголя, хотя и об этом тоже. Дионисийское начало как основу творчества с античных времен исследовали философы: Ф. Ницше, Вяч, Иванов, Н. Бердяев, Е. Трубецкой и др. О духовной трезвости написано гораздо меньше. Но, по слову преподобного Исихия Иерусалимского: «Трезвение есть твердое водружение помысла ума и стояние его у двери сердца».

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .
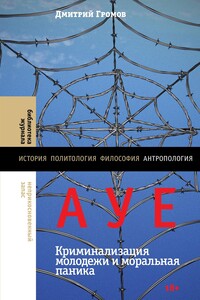
В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.
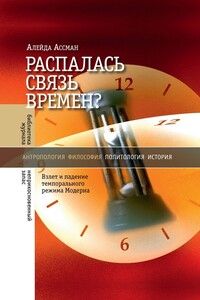
В своей новой книге известный немецкий историк, исследователь исторической памяти и мемориальной культуры Алейда Ассман ставит вопрос о распаде прошлого, настоящего и будущего и необходимости построения новой взаимосвязи между ними. Автор показывает, каким образом прошлое стало ключевым феноменом, характеризующим западное общество, и почему сегодня оказалось подорванным доверие к будущему. Собранные автором свидетельства из различных исторических эпох и областей культуры позволяют реконструировать время как сложный культурный феномен, требующий глубокого и всестороннего осмысления, выявить симптоматику кризиса модерна и спрогнозировать необходимые изменения в нашем отношении к будущему.
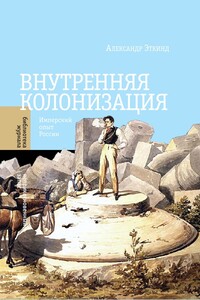
Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.
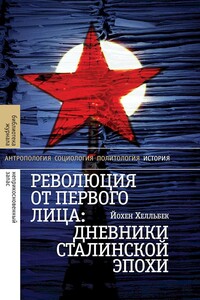
Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.