Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [88]
Укорененность Пастернака в повседневном быте — проблема не «бытовая», а философская. Ее сущность составляет служение действительности, обрекающее художника на незащищенность, своего рода интеллектуальную обезоруженность, в момент его выхода в пространство метафизической свободы. Парадоксально, бытовой комформизм Пастернака служит именно знаком этого метафизического изгойничества, не строящего никаких иллюзий по поводу того, что «мировая культура», «народный язык», «гений творчества», «лес символов» могут стать для него обжитым домом. Необычная острота, с какой Пастернак в своем философском самосознании переживает разрыв между сознанием, распорядок действий которого предвиден априорными категориями разума и конвенциями культуры, и откуда-то доносящимися отголосками до-феноменальной, до-апперцепционной действительности, определяет понимание им той роли, которая в этой эпистемологической драме может принадлежать художественному творчеству и ему самому как личности, решившейся выйти на подмостки искусства.
Роль эта, как мы видели, состоит прежде всего в том, чтобы предложить самого себя действительности в качестве ее невольника, с целью если и не освободить ее вовсе из-под власти неизбежного, то по крайней мере создать мгновения свободы, переживание которых искупает ее «падшее» состояние. Оставить эту роль, окинуть новую действительность превосходительным взглядом субъекта, иммунного по отношению к окружившему его миру и внутренне от него свободного, означало бы, в пастернаковской системе ценностей, полное крушение всего, чем только и может быть оправдана привилегированная исключительность искусства: его выбывание из строя всеобщей повинности, определяемой непреложной тяжестью вещей в обиходном существовании. Поэтический субъект Пастернака продолжает отчаянно гоняться за осколками действительности, на краткий миг выхватывая ее отрывочные частицы из плена апперцепции, — не справляясь о том, какова эта предстающая в мерцании действительность в оценке его разумного «я». Скорее напротив: чем более безотраден проступающий феноменологический слепок окружающего мира, чем сильнее ощущается интеллектуальный «тупик при встрече с умственною ленью», — тем острее переживается плененное состояние действительности и, соответственно, ее молчаливый призыв к художнику «не предаваться сну». Юрий Живаго мог разочароваться и в мире, родившемся из насилия и катастроф революции, и в собственных силах, и погибнуть от «отсутствия воздуха» (в трамвае). Для творческой личности Пастернака такой исход, как кажется, просто невозможен.
Так, по крайней мере, дело представлялось в первой половине 30-х годов. В дальнейшем — в особенности в 50-е годы, когда тотальное насилие и разрушение уступает место всепобеждающей банальности, а на смену свирепым гонениям приходит почти благодушное невежество, — см юл дилеммы «второе рождение или смерть» усложняется, и ответ на нее перестает выглядеть однозначным. В высокой простоте, к которой Пастернак стремится всю жизнь и которую наконец обретает, проглядывают черты опрощения, делая победу неотличимой от поражения. Одержал ли Пастернак — как художник, как мыслящая личность — победу над Живаго, не вынесшим духоту трамвая, или Живаго дал ему поэтический голос, позволивший создать стихи от его имени? Стало ли самоотверженное служение Пастернака действительности «охранной грамотой» для мира тех, кто, говоря словами Пушкина, рано оставил праздник жизни, не дочитав ее романа, или, напротив, это они дали возможность его роману родиться? Тут представляется уместным вспомнить афоризм, которым Витгенштейн завершает «Логико-философский трактат»: о чем невозможно говорить, о том следует молчать.
Но вернемся в 1932 год. Произведение, которым открывалось «Второе рождение», как будто перебрасывало мост от повествовательных поэм 1920-х годов к лирике 1930-х. Оно состоит из секций, отграниченных разделительной чертой, каждая из которых могла бы составить отдельное лирическое стихотворение; в сборнике их объединяет не только общая тема — впечатления лета, проведенного на отдыхе на берегу моря и в путешествии по Кавказу, — но и единое общее заглавие: «Волны». Перед нами специфический поэтический дизайн, представляющий собой некое промежуточное образование между поэмой, расчлененной на секции-фрагменты, и циклом лирических «вариаций» на общую тему.
Предметом нашего анализа послужит третий из этих фрагментов-вариаций:
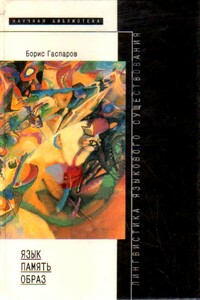
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
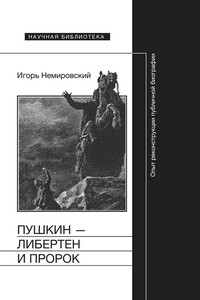
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.