Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [46]
Конечно, Маяковский и Есенин — едва ли не единственные имена, сохранившиеся в мнемоническом пантеоне современного автобиографии читателя. Все же можно предположить наличие у Пастернака внутренней мотивации в том, чтобы назвать именно этих двух авторов, необратимость смерти которых — не только как простого факта, но в более сложном смысле бесповоротного ухода из настоящего, — несомненно, подчеркивал акт самоубийства. В этой компании Пастернаку легче думать и о своем прежнем творческом «я» как о зерне, которое умерло, чтобы дать всход[151]. Характерны режущие глаз советские идиомы («порочные работы») и советские ходы мысли (вроде жонглирования «субъективным» и «объективным» в изложении доклада), бессмысленность которых Пастернак в иные моменты ощущал, и умел выразить, с большой остротой. Но такова действительность воскрешения: новый побег, вырастающий из умершего зерна, не может не нести на себе отпечаток почвы, из которой прорастает. Изменившиеся черты, в которых предстает воскрешенное прошлое, — это своего рода печать забвения, без которого невозможна память.
Вместе с тем, интересно упоминание «стиля» в устах автора, обычно проблемами стиля как такового мало озабоченного. Здесь мы подходим еще к одному аспекту экзистенциального кризиса, обозначенного как обрушивание всех «перегородок». Приобретенный ценой метафизической смерти прямой взгляд на действительность, возвысившийся над ее «частичностью», отменяет авангардную фрагментарность, бывшую ничем иным, как следом погони за разлетающимися частицами действительности. Ключ к стилевой простоте Пастернака — в «неслыханной простоте» взгляда на действительность без посредствования, лицом к лицу, неуклоняющаяся прямота которого делает лихорадочное скольжение поэтического зрения не только ненужным, но невозможным.
Конечно, движение к простоте, в чисто стилевом смысле, было постепенным. В сущности, ни одна поэтическая книга Пастернака не была стилистически тождественна предыдущей. Даже глядя на последование ранних книг, от «Близнеца в тучах» до «Тем и вариаций», можно заметить постепенное замедление того, что Локс в свое время обозначил как движение золотых частиц, «носимых хаосом». Более того, как справедливо замечает Быков, уже в 30-е годы, в «Записках Патрика Живульта», если судить по сохранившимся частям, Пастернак вполне достиг простоты синтаксиса и апеллятивной прямоты, свойственных повествованию и диалогам «Доктора Живаго». На этом фоне особенно характерно стремление провести резкую границу («до 1940 года»), как и сама дата, по которой эта граница проходит. Мы узнаем в ней (с округлением) дату поворотного пункта, за которым Пастернаку открылось новое самосознание и новое отношение с действительностью. Условием этого откровения является смерть — не «в запоминающемся подобии», но действительная, по крайней мере в метафизическом (или мистическом) смысле. Умершие (Есенин, Маяковский) — умерли, написанное — потеряно и полузабыто. Точно так же смерть Живаго и окружившее ее забвение (если представить себе толщу, отделившую его дочь от памяти о нем) служат прелюдией к его новой жизни в стихах.
Реализация, в том числе и стилистическая, этого нового самоощущения в «Стихотворениях Юрия Живаго» вполне очевидна. Едва ли стоит объяснения и эмфатически открытое (хочется сказать: «лицом к лицу») обращение к христианству в романе и в стихах, столь поразительное, если посмотреть на него чисто эмпирически, в сравнении с фрагментарными «частицами» знаков христианства, рассыпанными в творчестве «до 1940 года».
Я упоминал уже, что чеканная неоклассическая дикция и отчетливый жанровый профиль многих из «Стихотворений Живаго», как и прямая апелляция к философским и мистическим смыслам, — черты, в целом поэзии Пастернака отнюдь не свойственные, — связаны с тем, что «автором» стихов является Живаго, духовный и творческий мир которого сформирован Серебряным веком и который в этом мире остался, уйдя из жизни вместе с ним. Отношение Живаго к автору романа можно сравнить с отношением Вертера к Гете. Стихи Живаго — это творчество «умершего» поэта, сама память о котором, как казалось (до явления стихов), безнадежно скрылась под толщей забвения. Стихи Живаго выглядят как пастернаковский «перевод» некоего неведомого автора Серебряного века; их скорее можно сопоставить с переводами стихотворений Рильке 1956 года, чем с «собственными» стихами Пастернака этого времени.
То, что Пастернак написал после «Доктора Живаго», на стихотворения Живаго совсем не похоже. Напротив, во многих стихотворениях из «Когда разгуляется» можно увидеть много черт сходства со стихами из ранних поэтических книг. Их предметом по большей части служит непосредственный отклик на сиюминутное впечатление: прогулка в лесу, сенокос, смена времен года, встреча с любимой. Но спокойный, неторопливый, ровный тон, которым обо всем этом повествуется, устанавливает дистанцию между самим феноменом и его отображением в мире лирического субъекта. Страстное стремление «коснуться» действительности и связанная с ним торопливая беспорядочность и отрывочность жестов «прикосновения» уступает место созерцанию. За действительностью больше не гоняются, отбивая в «бешеной лапте» летящие со всех сторон осколки впечатлений. Поэт больше не стремится во что бы то ни стало, любой ценой и в каком угодно обрывке, передать горящую непосредственность нечаянного соприкосновения с жизнью, отпечатавшегося на «свежевыкрашенной» поверхности души. Контакт с действительностью не может исчезнуть; ему гарантирована вечность в памяти, но, именно в силу обретенной «длительности», он теряет сиюминутную непосредственность. В основе спокойствия поэтического субъекта позднего Пастернака лежит принятие им забвения как неотъемлемого свойства памяти, умирания как свойства бессмертия.
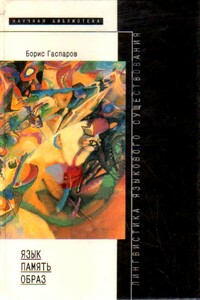
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

Талантливый драматург, романист, эссеист и поэт Оскар Уайльд был блестящим собеседником, о чем свидетельствовали многие его современники, и обладал неподражаемым чувством юмора, которое не изменило ему даже в самый тяжелый период жизни, когда он оказался в тюрьме. Мерлин Холланд, внук и биограф Уайльда, воссоздает стиль общения своего гениального деда так убедительно, как если бы побеседовал с ним на самом деле. С предисловием актера, режиссера и писателя Саймона Кэллоу, командора ордена Британской империи.* * * «Жизнь Оскара Уайльда имеет все признаки фейерверка: сначала возбужденное ожидание, затем эффектное шоу, потом оглушительный взрыв, падение — и тишина.

Проза И. А. Бунина представлена в монографии как художественно-философское единство. Исследуются онтология и аксиология бунинского мира. Произведения художника рассматриваются в диалогах с русской классикой, в многообразии жанровых и повествовательных стратегий. Книга предназначена для научного гуманитарного сообщества и для всех, интересующихся творчеством И. А. Бунина и русской литературой.

Владимир Сорокин — один из самых ярких представителей русского постмодернизма, тексты которого часто вызывают бурную читательскую и критическую реакцию из-за обилия обеденной лексики, сцен секса и насилия. В своей монографии немецкий русист Дирк Уффельманн впервые анализирует все основные произведения Владимира Сорокина — от «Очереди» и «Романа» до «Метели» и «Теллурии». Автор показывает, как, черпая сюжеты из русской классики XIX века и соцреализма, обращаясь к популярной культуре и националистической риторике, Сорокин остается верен установке на расщепление чужих дискурсов.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.