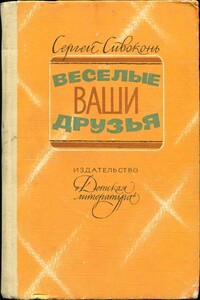Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [34]
Здесь мы опять подходим к тому, что составляет особенность переживания творчества у Пастернака по сравнению с другими направлениями искусства, устремленными в будущее, от йенских романтиков до футуристов и ОПОЯЗа, — его этическую направленность, окрашивающую весь процесс в аскетические тона. Творчество для Пастернака существует не просто «на переходе» от прежнего состояния к новому, но на таком переходе, при котором прежнее подлежит прямому отрицанию и «вымарыванию».
Заряженность будущим оттеняет пройденность уже сделанного. Его стоило бы «разорвать» и начать заново; его пропажу констатируют без сожаления, — все эти потери, вольные или невольные, лишь подтверждают транзитный характер утерянного.
Прогулка по комнате, и потом порыв: зарегистрировать, отметить навсегда все вокруг: пляшущие мысли, состояние просветления, остановку, имя, все, чем можно отметить, пометить даже этот миг. Это набрасывается у окна масса листков. <…> Сквозняк и вдруг все эти белые приметы «одиночества в экстазе» летят за окно. (Письмо к Фрейденберг 28.07.1910)
Этот встречный вектор самоконтроля, как бы устремляющийся навстречу потоку безудержных импровизационных «случайностей», заявляет о себе рано — задолго до провозглашения «неслыханной простоты» как редуктивного принципа. Как кажется, он является в тот самый момент, когда Пастернак выходит из своих «годов учения» и обращается к художественному творчеству. В начале пути эта тенденция к рефлексирующей редукции почти незаметна в хаосе напряженной погони за действительностью; но постепенно она все более выступает на передний план, оттесняя безудержную непосредственность глубоко под поверхность стиха, позволяя ей заявлять о себе лишь в «далеком отголоске». Однако и в раннем творчестве эта позиция присутствует. Она настоятельно заявляет о себе в уничижительных самооценках, в разнообразии которых Пастернак проявляет немалую изобретательность. В его высказываниях о собственном творчестве то и дело попадаются такие определения, как «хлам», «мусор», «сор», «опилки и высевки».
Всего через полгода после драматического лета 1912 года, когда, внутренне порвав с философией, Пастернак впервые всецело отдался «стихописанию», он в письме к С. Н. Дурылину назовет результаты этого творческого порыва «марбургским хламом»[124]. В следующем, 1913 году, обдумывая теоретическую книгу, которая продолжила бы доклад «Символизм и бессмертие», Пастернак пишет С. П. Боброву:
Все-таки я кое за что брался, теоретическое и нетеоретическое. Но все это, написанное или только намеченное, нисколько не любо мне. И я слишком быстро настраиваюсь на враждебный лад относительно этой дряни[125].
Надписывая в 1924 году «Темы и вариации» для Марины Цветаевой, Пастернак определяет свою поэтическую книгу как дань «поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки, и теперь кающегося»[126]. (Надпись намекала на то обстоятельство, что в состав этой книги вошли многие стихи, «отсеянные» из предыдущей, «Сестра моя жизнь».)
Это отношение сохраняется и в дальнейшем, отнюдь не ограничиваясь ранним периодом. Так, в 1935 г. Пастернак пишет О. М. Фрейденберг по поводу недавно вышедшей книги переводов грузинских поэтов:
Я не помню, посылал ли я вам своих грузин или нет. Там половина — чепуха ужасная. И жалко, что крупицы достойного отяжелены стольким мусором (письмо 14.01.1936).
И наконец, уже в 1945 году, в другом письме к Фрейденберг, в ответ на ее тревогу по поводу развернувшейся критической кампании, Пастернак с легкостью и даже как бы с охотой присоединяется к «скандалу» как к поводу для критической переоценки всего своего прошлого:
Теперь, когда это недоразуменье насчет меня и скандал так укореняются, мне действительно хочется стать человеком. Я глупейшим образом надеюсь исправить и оправдать все эти недомолвки и недоделки. Мне в первый раз в жизни хочется написать что-то взаправду настоящее. (23.12.1945)
С той же легкостью назовет он десять лет спустя свои прошлые работы («до 1940 года») «порочными и несовершенными», позаимствовав для их осуждения лексикон заушательской официозной критики с такой же естественностью, с какой идиоматические сгустки советской идеологии и советского быта находили свое место в его поэтическом стиле, начиная с «Второго рождения».
Что эти оценки не были поведенческим «юродством», а отражали твердую моральную позицию, свидетельствуют слова, обращенные к недавно вернувшемуся из лагеря Шаламову в ответ на его сетование на свирепые нападки критики на наследие Серебряного века. То, что гонители неправы, еще не делает нас автоматически правыми, заявляет Пастернак; «расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна», даже если она несправедлива (письмо 9.7.52; СС 5:499). Критика, сколь угодно недобросовестная и несправедливая, может стать катализатором обновления тем, что подталкивает на пересмотры и «вымарывания» (конечно, совсем не обязательно в направлении, ею указанном). За четверть века до этого, по поводу «гонений» (конечно, в то время еще сравнительно умеренного свойства), обрушившихся на Мандельштама, Пастернак пишет Тихонову (в то время ему еще близкому), что Мандельштам станет для него «загадкой», —
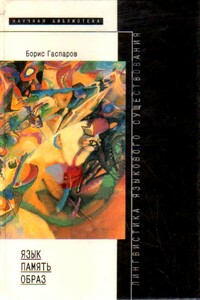
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
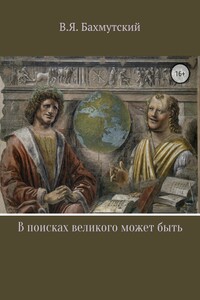
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.