Болтун. Детская комната. Морские мегеры - [77]
Оспорить выводы Бланшо совсем не просто: среди писателей минувшего века, трезво относившихся к собственному делу и неразрывно связанным с ним иллюзиям, Дефоре действительно выделяется необычайной методичностью, с какой он подрывает машинерию литературы изнутри, средствами самой литературы. Об этом, ссылаясь или не ссылаясь на Бланшо, не раз писали и другие исследователи. Возникает, однако, вопрос — может быть, самый важный вопрос, который ставят и «Болтун», и более поздние сочинения писателя: в чем заключался смысл этого предприятия для него самого? Можно ли считать, что Дефоре, в известной степени предвосхитивший эпоху «смерти автора», «поворота к языку», «интертекстуальности» и других концепций 1950–1970-х годов, и безусловно связанный с этой эпохой многими нитями, был всего лишь хладнокровным конструктором (или, если угодно, деконструктором), который, пусть и щекоча воображение читателя с помощью хитроумных кунштюков, или даже его поддразнивая, но фактически оставляя столь же холодным участником очередной вариации игры в бисер, довольствовался тем, чтобы иллюстрировать своими текстами полную несостоятельность литературы, принципиальную невозможность прикосновения человеческой речи к реальности? Или, как пишет Доминик Рабате, автор одной из наиболее содержательных книг о Дефоре, изданных за последние годы, его творчество в целом нужно расценивать как попытку «вновь завоевать с помощью языка нечто исключительно позитивное, пересиливающее весь заряд негативности, заключенный в его сочинениях»[19]? С Бланшо согласились далеко не все: и тот же Рабате, и другие критики, писавшие о Дефоре, стремятся показать, что этим писателем, бесспорно далеким от привычного мимезиса и тем более от намерения лобовым образом воздействовать на эмоции своих читателей, движет подлинная страсть, и «враждебное слово отрицанья», которое он противопоставляет иллюзиям, неотделимым от литературы, нужно ему в конечном счете для своеобразной «проповеди любви», по меньшей мере — для указания на ее возможность и необходимость.
Наиболее существенные коррективы к построениям Мориса Бланшо предложил Ив Бонфуа. В 1982 году этот поэт, годом раньше ставший профессором Коллеж де Франс, посвятил Дефоре отдельный курс лекций, который впоследствии переработал в большое и обстоятельное эссе[20]. Отдавая должное проницательным суждениям Бланшо, Бонфуа приходит к выводу, что тот, сосредоточившись на рассмотрении «Болтуна», все же упустил из виду некоторые особенности поэтики Дефоре и потому оценил ее не вполне точно. Чтобы обосновать свой тезис, он анализирует написанные к тому времени сочинения Дефоре в их совокупности, но в первую очередь рассматривает «Болтуна», «Обезумевшую память» и «Звездные часы одного певца», вычленяя общий символический план, позволяющий соотнести смысловое целое, образуемое этими текстами, с тем важнейшим переломом, который пережили в середине прошлого века литература и гуманитарная мысль, — критической революцией, отрицающей возможность сколько-нибудь адекватной репрезентации мира с помощью слов.
Так, в ребенке из «Обезумевшей памяти» Бонфуа видит образ писателя, каким тот мог сознавать себя (хотя, возможно, и заблуждаться на свой счет) накануне этой революции, и в то же время обнаруживает новую проблематизацию категории «я», прямо связанную с этим поворотным моментом. В лице гордого подростка здесь представлено сознание, еще ощущавшее себя, по выражению Рембо — такого же гордеца и такого же подростка, — «причастным к миру», пребывающее там, где слова сохраняют способность нести связный смысл, а говорящий субъект полагает, что находится в центре вселенной и знает ее язык. Наиболее показателен в этом отношении вершинный момент детства героя — майское воскресенье в часовне, когда пение позволяет ему «улететь, оставив врагов далеко позади». Этот эпизод вовсе не однозначен, как может показаться при беглом чтении: хотя изображенный здесь «бесконечный головокружительный подъем» внешне похож на мистический опыт, он не связывается с характерным для такого опыта самозабвением и самоотречением; напротив, начав петь гимн Творцу, ничуть не располагающий к утверждению собственного субъективного начала, тем более к надменной позе, подросток именно эту позу и принимает: «…если он кого-нибудь славит — во все горло, с безрассудной растратой сил, — то лишь самого себя», еще раз утверждая, таким образом, самосознание «я», причем той его части, что наиболее тяготеет к независимости, наиболее жестко спаяна с иллюзорными представлениями о себе. В этом освободительном полете Бонфуа усматривает отражение «притязаний и гордыни поэзии, какой, начиная с Шатобриана и кончая Малларме или юным Рембо, ее видел романтизм»[21]: Дефоре словно резюмирует и заново оценивает содержание уходящей в прошлое литературной эпохи в преддверии новой. Но сам переход уже совершился или, во всяком случае, обозначился — воспаряя ввысь, ребенок не сводит глаз с земных декораций этой сцены, пристально следит за тем, какое впечатление его взлет производит на окружающих. Еще более зримо свидетельствует о его раздвоенности то, что после своего подвига он отнюдь не чувствует, что вправе пользоваться внезапно приобретенной властью над сверстниками, и видит в себе не романтического героя, а жертву недоразумения или, еще хуже, настоящего шарлатана; да и обет молчания лишается для него прежнего смысла, а пережитый экстаз сразу же — задолго до того, как он стал «литератором», — отчуждается и приобретает загадочный характер. В той проекции рассказа, которую исследует Бонфуа, этот момент как раз и соответствует важнейшему перелому в истории западной культуры, когда над спонтанным, простодушным
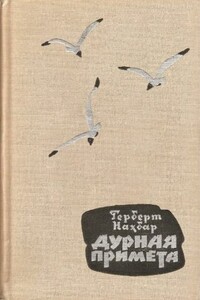
Роман выходца из семьи рыбака, немецкого писателя из ГДР, вышедший в 1956 году и отмеченный премией имени Генриха Манна, описывает жизнь рыбацкого поселка во времена кайзеровской Германии.
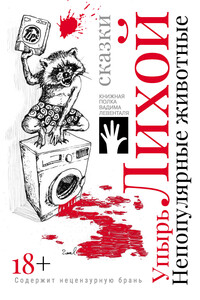
Новая книга от автора «Толерантной таксы», «Славянских отаку» и «Жестокого броманса» – неподражаемая, злая, едкая, до коликов смешная сатира на современного жителя большого города – запутавшегося в информационных потоках и в своей жизни, несчастного, потерянного, похожего на каждого из нас. Содержит нецензурную брань!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе первого романа лежит неожиданный вопрос: что же это за мир, где могильщик кончает с собой? Читатель следует за молодым рассказчиком, который хранит страшную тайну португальских колониальных войн в Африке. Молодой человек живет в португальской глубинке, такой же как везде, но теперь он может общаться с остальным миром через интернет. И он отправляется в очень личное, жестокое и комическое путешествие по невероятной с точки зрения статистики и психологии загадке Европы: уровню самоубийств в крупнейшем южном регионе Португалии, Алентежу.

Роман греческого писателя Андреаса Франгяса написан в 1962 году. В нем рассказывается о поколении борцов «Сопротивления» в послевоенный период Греции. Поражение подорвало их надежду на новую справедливую жизнь в близком будущем. В обстановке окружающей их враждебности они мучительно пытаются найти самих себя, внять голосу своей совести и следовать в жизни своим прежним идеалам.
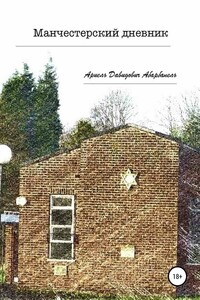
Повествование ведёт некий Леви — уроженец г. Ленинграда, проживающий в еврейском гетто Антверпена. У шамеша синагоги «Ван ден Нест» Леви спрашивает о возможности остановиться на «пару дней» у семьи его новоявленного зятя, чтобы поближе познакомиться с жизнью английских евреев. Гуляя по улицам Манчестера «еврейского» и Манчестера «светского», в его памяти и воображении всплывают воспоминания, связанные с Ленинским районом города Ленинграда, на одной из улиц которого в квартирах домов скрывается отдельный, особенный роман, зачастую переполненный болью и безнадёжностью.