Большаки на рассвете - [8]
Промокший до пояса, я брел через луга и думал, медленно, непривычно медленно, делая чуть ли не на каждом шагу остановки и все время к чему-то прислушиваясь. Вдали все еще рокотал гром, сверкали бледные молнии, на востоке светил месяц. Ночь, воспетая и прославленная романтиками, глухо погромыхивая, проваливалась вместе со мной куда-то в прошлое. Но вдруг вспыхнул ярко-красный огонь. Я смотрел, как он разливается на востоке по небосводу, как тает его теплый, но все же не очень приветливый багрянец. Снова бабахнуло.
Проблеск за проблеском, мысль за мыслью, словно глухие, неожиданные, переворачивающие все мое существо удары, и тишина, к которой я прислушивался, весь обомлев. Эти мысли были неожиданны и многое сулили, но они требовали решимости, давно уже не свойственной мне решимости — куда только она девалась, ведь было время, когда я дрался с мальчишками и клал на лопатки не одного своего сверстника; хватало мне и смелости. Где она теперь? Передо мной открывались новые просторы познания, еще туманные, расплывчатые, но вполне угадываемые. Смогу ли я начать все сначала? Откуда взять силы? Вернусь ли я? И если вернусь, то ради чего? Я слишком далеко зашел, а ведь знания порой не спасают, а губят. Я не раз убеждался в том, что везет в жизни пошлякам, циникам, ничего не понимающим, не чувствующим никакой ответственности. Как все для них просто, с какой спокойной совестью они расталкивают других, протискиваются вперед, несут ахинею, а другие слушают их и понимают!
Как будто рассвело; туман стал рассеиваться, четко проступили все контуры: дуб, возле него иссохший, как скелет, расколотый молнией ствол клена, но там, чуть дальше, в ложбине, еще висят клубы тумана, а еще дальше — нежные, манящие, загадочные его клочья. Кто-то тебя поторапливает, подстегивает: вперед, хотя бы еще на шаг. Ты не должен быть отброшен в сторону, не жди, пока тебя оттолкнут, высмеют, обругают. Стремись из последних сил вперед, вникай в самую суть, пробирайся в самую чащу и будешь спасен, тебя услышат, и крестьянин, встретившись с тобой ранним утром на дороге, поприветствует тебя.
Но почему так колотилось сердце? Почему горло вдруг сдавили рыдания — я не сентиментален и не помню, чтобы когда-нибудь плакал. Почему из сокровенных глубин, из моего нутра рвались наружу, затопляя ночные поля, и беспредельная преданность, и любовь, и надежда?
Я и не заметил, как очутился на краю топи, возле избы кожемяки Майштаса.
Сын Майштаса Таутгинас, высокий гимназист с бледным болезненным лицом сидел за столом, на котором коптила лампа, и что-то писал. В комнате было душно, стоял смрад от выделываемой кожи. Увидев меня, Таутгинас немало удивился, покраснел, прикрыл свои бумаги и поднялся.
Несколько лет тому назад я еще видел его на отцовской мельнице, хмурого, сосредоточенного. Работал он без души, и брат Миколас инстинктивно ненавидел его, а отец побаивался. Не раз я был свидетелем того, как он, размахивая руками, что-то объяснял кучке рабочих. Стоило кому-нибудь из нас подойти, как разговор тут же обрывался. Он, наверное, распространял и запрещенную литературу. Однажды даже забастовку устроил.
Я смотрел на младшего Майштаса снисходительно, почти свысока, как бывалый, много повидавший в жизни человек. У меня не было никакого желания с ним спорить, да и он был не из словоохотливых. Только поглядывал на меня исподлобья. Но однажды он не выдержал — сорвался. Сколько пыла, укрощенной энергии, тайной ненависти было в его словах! Их лавина меня просто подхватила, понесла, бросила в самую бездну. До сих пор перед моими глазами стоит его разгоряченное лицо в мелких капельках пота, пухлые губы, а в ушах звучат его слова: «Революция, пролетариат, диктатура…» Лицо словно озарено студеными зарницами Петербурга; я как бы видел срываемые со стен объявления, мостовую, усеянную воззваниями и газетами, пламенных ораторов, что-то кричащих с крыш вагонов и с балконов толпе чумазых рабочих, видел, как они толкутся, грозят кулаками окнам, за которыми в страхе прячутся чьи-то бледные физиономии.
Поначалу Майштас-младший встретил меня недоверчиво, словно вопрошая — по какому, мол, делу пришел, теперь ведь он власть, вечно митингует. Но понемногу мы разговорились. Каждый старался обскакать другого, дополнить сказанное; мы разговаривали, склонившись друг к другу, как два заговорщика, которые боятся, что их могут услышать, и изредка косились на окно, — по стеклу тихо постукивали ветки сирени. В открытые двери слышно было, как храпит пьяный отец Таутгинаса. Майштас-старший тяжело ворочался в постели, стонал, вздыхал, но шепотом мы разговаривали не из-за него.
Таутгинас откуда-то вытащил бутыль самогона. Наше сближение длилось недолго. Хорошенько захмелев, Майштас-младший уперся локтями в стол, снова уставился на меня, стал поносить своих врагов, угрожать им — к их числу, видно, принадлежал и я. Его опять охватил очередной порыв энтузиазма. Я смотрел ему в глаза, на его крупное мужское лицо с выпирающими скулами, следил, как он то отодвигает от себя бумаги, то снова придвигает, прижимает их локтями, поглядывает на сваленные на столе брошюры и газеты… Как внезапно мы бросились друг другу в объятия, так внезапно и остыли. В наступившей тишине было слышно его тяжелое дыхание. Чувствуя на себе его цепкий взгляд, я смотрел, как розовая бабочка билась о стекло лампы — пыльца облетала с ее широких, старательно выгравированных крылышек. Пыль… пыль. Маленькие облачка пыли плыли по избе, щекоча ноздри. Перед глазами все время стоял отец — маленький, в мучных пятнах, оглядывающий притихший двор мельницы, стоял брат со сверкающими злобой глазами и оглядывался. Я не вернусь в свой дом как враг, у меня нет, попутчиков, хотя, если послушать брата, я выродок и изменник. Мне по-своему нравится Таутгинас, хотя его прыть, которая объясняется молодостью, категоричность просто озадачивают. Но чего от него хотеть — он работал на мельнице моего отца, таскал мешки, а я…

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».

Из предисловия:Владимир Тендряков — автор книг, широко известных советским читателям: «Падение Ивана Чупрова», «Среди лесов», «Ненастье», «Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд» и др.…Вошедшие в сборник рассказы Вл. Тендрякова «Костры на снегу» посвящены фронтовым будням.
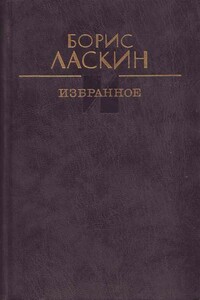
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга написана о людях, о современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях. Это люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края».Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге «Мост через Жальпе» литовского советского писателя Ю. Апутиса (1936) публикуются написанные в разное время новеллы и повести. Их основная идея — пробудить в человеке беспокойство, жажду по более гармоничной жизни, показать красоту и значимость с первого взгляда кратких и кажущихся незначительными мгновений. Во многих произведениях реальность переплетается с аллегорией, метафорой, символикой.

В романе классика литовской литературы А. Венуолиса (1882—1957) запечатлена борьба литовцев за свою государственность в конце XIV века. Сюжет романа основан на борьбе между Литвой и Тевтонским орденом. Через все произведение проходит любовная линия рыцаря тевтонского ордена и дочери литовского боярина.
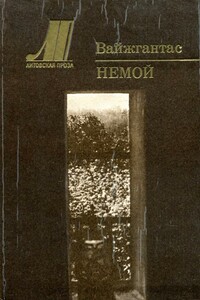
В публикуемых повестях классика литовской литературы Вайжгантаса [Юозаса Тумаса] (1869—1933) перед читателем предстает литовская деревня времен крепостничества и в пореформенную эпоху. Творческое начало, трудолюбие, обостренное чувство вины и ответственности за свои поступки — то, что автор называет литовским национальным характером, — нашли в повестях яркое художественное воплощение. Писатель призывает человека к тому, чтобы достойно прожить свою жизнь, постоянно направлять ее в русло духовности. Своеобразный этнографический колорит, философское видение прошлого и осознание его непреходящего значения для потомков, четкие нравственные критерии — все это вызывает интерес к творчеству Вайжгантаса и в наши дни.