Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни [заметки]
1
Между «Архипелагом» и «Красным Колесом». – Примеч. 1986.
2
Проза Шаламова тоже, по-моему, пострадала от долголетней замкнутости его работы. Она могла бы быть совершеннее – на том же круге материала и при том же авторском взгляде.
3
Лидия Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» вспоминает, как та пятью годами раньше гневалась на Твардовского за тогдашнюю главу «Друг детства»: «Новая ложь взамен старой!»
И поэт вместе с зэком
И зэк
Да: для 1956 удобная лесенка лжи.
4
А «Софье Петровне» пришлось ещё несколько лет ожидать – до своей четверти века и зарубежного опубликования. Очень понятное у нас, это совсем непонятно Западу: один и тот же журнал не посмел бы опубликовать вторую повесть на тюремную тему. Ведь получалась бы линия…
5
Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обезценение форм. «Иван Денисович» – конечно рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мельче рассказа я бы выделял новеллу – лёгкую в построении, чёткую в сюжете и мысли. Повесть – это то, что чаще всего у нас гонятся называть романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательна протяжённость во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объёмом и не столько протяжённостью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько – захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли.
6
Ничего не доводил Хрущёв до конца, не довёл и низвержения Сталина. А немного б ему ещё – и ничьи б уже зубы не разомкнулись провякать о «великих заслугах» убийцы.
7
«Новый мир» изящно пошутил над цензурой: безо всякого объяснения послал им на визу первую вёрстку «Ивана Денисовича». А цензура в глуши своих застенков ничего и не знала о решении ЦК, ведь оно прошло келейно, как всё у нас. Получив повесть, цензура обалдела от этой «идеологической диверсии» и грозно позвонила в журнал: «Кто прислал эту рукопись?» – «Да мы тут», – невинно ответила зав. редакцией Н. П. Бианки. – «Но кто персонально одобрил?» – «Да всем нам понравилось», – щебетала Бианки. Угрозили что-то, положили трубку. Через полчаса позвонили весело: «Пришлите ещё пару экземпляров» (им тоже почитать хотелось). Хрущёв – Хрущёвым, а виза цензуры всё равно должна была на каждом листе стоять.
8
Но пришлось сменить на «Кречетовка», чтоб не распалять вражды кочетовского «Октября» к «Новому миру».
9
Соображения «пройдёт – не пройдёт» настолько помрачали мозги членам редакции «Нового мира» (тем более – всех других советских журнальных редакций), что мало у них оставалось доглядчивости, вкуса, энергии делать веские художественные замечания. Во всяком случае, со мною, кроме вот этой единственной беседы А. Т., никто в «Новом мире» никогда не провёл ни пяти минут собственно редакторской, а не противо-цензорской работы.
10
Да куда совсем не поспевали ни мои заботы, ни тем более Твардовского, а где очень надо было бы обернуться-позаботиться: что делается сейчас с переводами «Ивана Денисовича» на языки? Ужасности этого – что рассказ мой зарубливают на 25 и на 40 лет вперёд, – я совершенно не представлял. При том, что СССР – не член международных соглашений об авторском праве, рассказ был открыт на расхват кому угодно. А тут такая политическая сенсация! Только на одном английском языке взялись издавать 6 издательств, не считал на других. И все же – наперегонки, кто раньше, переводчики – самые случайные, только бы скорей! – а перевод-то наисложнейший. Даже группа Хингли и Хэйворда, самая солидная, перевела неудачно, – что ж говорить о других! Серый малограмотный поток с политическим шибаньем в нос. Погасли все краски, все языковые пласты, все тонкости, а уж намёки на брань переводились самыми последними отъявленными ругательствами, полным текстом. – Примеч. 1978.
В 1981 в штатах Массачусетс и Вермонт книгу изымали из школьных библиотек за эти грубые ругательства (хотя нынешние американские школьники ругаются грязнее наших зэков) – и я получал негодующие письма от родителей: как можно такую мерзость печатать! – Примеч. 1986.
11
Есть литература каждого отдельного народа и есть литература мировая (огибающая по вершинам). Но не может быть никакой промежуточной «многонациональной» литературы (пропорциональной, вроде Совета Национальностей). Это дутое представление, наряду с соцреализмом, тоже помешало развитию нашей литературы в истекшие десятилетия.
12
«Кремлёвский самосуд». Родина, 1994. С. 5–7. – Примеч. 2004.
13
Изворотливый Аджубей первый же и напечатал, но с таким вступлением: как эту поэму красиво слушал Шолохов (!?..). Тут и Аджубей весь, тут и нашим и вашим, тут и: своего же 30 лет ничего нет, будешь слушать…
14
Так оно и сказывалось. После отказа мне в премии, жаловался потом А. Т., стало журналу совсем невыносимо, придирались в цензуре к каждому пустяку. И чтобы журнал не опаздывал безнадёжно, приходилось уступать.
15
В тех же днях ещё М. А. Лифшиц, ортодокс, имевший долгие годы сильнейшее влияние на Твардовского, дал письменную рецензию на мой роман. Она предваряла собой те тучи критики, которые стянулись бы над романом, будь он напечатан, и, может быть, отчасти поколебала Твардовского. Пришлось мне письменно защищаться, чтобы его подкрепить.
16
Совсем недавно мне сказали, что Лебедев был – чекистом… По расчёту времени – при Сталине. Тогда, конечно, не в шашки они играли.
17
После свержения Хрущёва Лебедев, по новой круговой поруке верхов, только должность потерял, но не свергнут был из знатности и не впал в нищету. К. И. Чуковский встречал его в 1965 году в барвихском санатории. Бывший «ближний боярин» писал какие-то мемуары и говорил Чуковскому, что опровергает все мои неточности о сталинском быте (заели-таки его мои главы). Ещё с Новым, 1966 годом он меня поздравил письмом – и это поразило меня, так как я был на краю ареста (а может быть, он не знал?). До него дошли слухи, что мы поссорились с Твардовским, и он призывал меня к примирению. Мне было очень тошно в то время, и я не оценил, может быть, самого безкорыстного душевного движения Лебедева. А потом и с Твардовским у меня целый почти год касаний не было. Недавно же я узнал: именно в тот год, 1966, Лебедев умер, не старше лет пятидесяти. На похороны бывшего всесильного советника не пришёл никто из ЦК, никто из партии, никто из литературы, – один Твардовский. Представляю себе его дюжую широкоспинную фигуру, понурившуюся над гробом маленького Лебедева.
18
Критики просто не заметили, я упомянул: «соседнего председателя», который поднял колхоз на лесной спекуляции, – намёк на того самого Горшкова, которого мне критик и ставил в пример.
19
Вот уж не предполагал, что он станет дальше шефом КГБ!..
20
Кстати, так в этот вечер сложилось, что главным «юбиляром» оказался почему-то маршал Жуков, сидевший гостем в президиуме. При всяком упоминании его имени, а это было раз пять-шесть, в зале вспыхивали искренние аплодисменты. Московские писатели демонстративно приветствовали опального маршала! Струйка общественной атмосферы… Но к добру ли она льётся? Несостоявшийся наш де Голль сидел в гражданском чёрном костюме и мило улыбался. Мило-мило, а холоп, как все маршалы и все генералы. До чего же пала наша национальность: даже в военачальниках – ни единой личности.
21
Конечно, выходя на люди, Алексеев строит только на лжи. Гибель собственных родителей от голода в коллективизацию он в автобиографическом «Вишнёвом омуте» скрыл как деталь незначительную.
22
И Лакшин ещё сумеет подсунуть его «Известиям», и там будет набор, и лишь когда уже там рассыпят – придётся «Новому миру» принять на себя эту публикацию.
23
И повестью-то я её назвал сперва для одного того, чтоб не путали с конфискованным романом, чтоб не говорили: ах, значит, ему вернули? Лишь потом прояснилось, что и по сути ей приличнее называться повестью.
24
В очередном «ответе» Семичастный заявит, что я клеветал, будто мы морили с голоду немецких военнопленных.
25
Далее в квадратных скобках – ссылки на номера Приложений. – Примеч. ред.
26
Неоправданно надеялся я. Нельзя и за двадцать лет. И даже вообще целиком – нельзя. – Примеч. 1978.
27
Впрочем, Дементьев ещё долго и жалостно навещал редакцию с голосом на слезе. Он и никогда не работал здесь ради зарплаты, он выполнял общественное поручение, а сейчас, наверно, и совсем безплатно взялся бы.
28
Только много лет спустя я понял, что это, правда, был за шаг: ведь Запад не с искажённого «Ивана Денисовича», а только с этого шумного письма выделил меня и стал напряжённо следить. Ещё за полтора года перед тем разгром моего архива прошёл совсем незамеченным. А отныне – отмечался каждый мой жест против СП. – Примеч. 1978.
29
Список, кому разослать, я долго отрабатывал, каждую фамилию перетирая. Надо было разослать во все национальные республики и по возможности не самым крупным негодяям (ставка на помощь национальных окраин у меня, впрочем, сорвалась, – не нашлось там рук и голосов); всем подлинным писателям; всем общественно-значительным членам Союза. И наконец, чтобы список этот не выглядел как донос, – припудрить самими же боссами и стукачами.
30
А ведь рассчитано было, бросалось по разным районам Москвы, по разным ящикам, не больше двух писем вместе. Несколько человек помогало мне (см. Пятое Дополнение).
31
Секретарь мосгоркома КПСС, замахнувшийся на Брежнева.
33
Как это сделано в «Круге». Я предполагал так и в «Корпусе», позже отказался, может быть и зря. – Примеч. 1986.
34
Этот стыд за Чехословакию так долго и сильно ещё горел во мне потом, что в последующие годы, когда я составлял «Жить не по лжи», я в запале написал: «преданный нами, обманутый нами великий народ Европы – чехословацкий». А глянуть просторней – кто кого обманул и с каким душевным величием, когда чехословацкие легионеры дезорганизовали колчаковское сопротивление, самого Колчака предали на расстрел большевикам, а через Сибирь увозили украденное русское золото? (И они не были к тому принуждаемы пулей, как наши солдаты в 1968.) Это – один из нередких в истории примеров, когда люди, группы и даже целые нации в безумной слепоте куют своё же гибельное будущее. – Примеч. 1986.
35
А по Самиздату пришли и такие поздравления:
«…Поражены вашей способностью дожив до 50 лет писать правду. Просим поделиться опытом страницах нашей газеты.
Редакция “Правды”».
«…В год вашего 50-летия по количеству и качеству выпускаемой продукции мы заняли первое место в мире. Надеемся сотрудничать вами ближайшие 50 лет?
САМИЗДАТ».
«Кацо! Дарагой! Бальшое спасиба уточнение отдельных деталей маей замечательной биографии. Нэ плохо, очень нэ плохо, паздравляю!
Иосиф Джугашвили».
36
Еще забавное. Рано утром 12-го декабря это моё заявление отвезла из Рязани гостившая у нас в юбилейный день Вероника Туркина – с моей просьбой: в Москве тотчас отнести в «Литгазету», а копию в «Новый мир». Она так и сделала.
И вот, с опозданием в 35 лет читаю («Знамя», 2003, № 10, с. 162, 176), какова же была настороженная недоверчивость (а от кого и неприязнь) редакционной верхушки «Нового мира» ко мне: из этой быстрой доставки они с уверенностью заключили, что заявление моё «было разослано еще до его юбилея», а значит – сочинённый ход, …лучше б я этого не читал… страшнее всего быть смешным». Вот именно! по вашей робости и неповоротливости… – Примеч. 2004.
37
Да по моей постоянной спешке борьбы и из-за наших постоянных разладок в тактике мы никогда с ним не углубились серьёзно в литературную протяжённость – назад и вперёд. Твардовский очень был верен классической традиции и очень недоброжелательно относился к фокусным новшествам: он как бы предугадывал, как новая литературная молодёжь скоро бросится в клочья рвать саму русскую литературу. Почему в то время не укрепился наш союз на этом? Потому что я – так далеко не видел, я весь был напряжён в борьбе с бастионами советской лжи, да и его изводили тогда главным образом дутые советские «классики», новая порча ещё тогда не проступила. Это всё – издержки того хребта, по которому ещё предстояло пройти русскому сознанию: не свалиться ни в пропасть остро-каменного национал-большевизма, ни в трясину расплывчатой интернациональной (безнациональной) популярии. – Примеч. 1986.
38
Как их собирали и готовили – я узнал потом. Секретарь рязанской писательской организации (из семи человек) Эрнст Сафонов верно предчувствовал и пессимистически говорил мне летом, что всю процедуру покатят через него. В СП РСФСР он упёрся против моего исключения. Но зав. отделом пропаганды рязанского обкома партии Шестопалов настиг его и в больнице после операции и тщетно пытался вырвать согласие там. (За сопротивление Сафонов потом много лет носил партийный выговор.) 4 ноября с утра Шестопалов вызывал четырёх писателей в обком по одному и каждому внушал, что меня надо исключить. Но такая неудобная цифра «7», что «4» не составляют из неё двух третей. Итак, для кворума необходимо было пригнать ещё пятого писателя – Николая Родина из Касимова. Это – 200 километров от Рязани, по худым дорогам, и Родин действительно лежал с высокой температурой, очевидно с воспалением лёгких. И по телефонной команде из обкома секретарь касимовского райкома принудил Родина сесть в райкомовскую машину. Однако Родин вернулся с дороги, говоря, что он может в пути умереть (шофёр пожалел Родина, нарушил партийную дисциплину.) Секретарь райкома пришёл в гнев: «По дороге – четыре больницы, будете заезжать к врачам!» – и погнал их снова. Родин успел приехать на заседание «партгруппы» – пяти партийных писателей (то есть все, кроме меня), где секретарь обкома по пропаганде Кожевников ещё их стропалил, направлял и удостоверялся. Оттуда через час они все и ввалили в писательскую комнату. – Примеч. 1978.
39
Год спустя он умудрится протащить в «Новом мире» (с новым руководством) стихотворение о бакенщике «Исаиче», которого очень уважают на большой реке, он всегда знает путь, – то-то скандалу было потом, когда догадались! и исключили-таки бедного Женю из СП. – Примеч. 1978.
40
Я считал, что подавил поэму в Самиздате и в «Цайт» и не дал ГБ её понюхать. Много позже как же я поразился, узнав, что ГБ тотчас получила поэму, лишь только стали её читать московские литераторы; передано было «Штерну» через его московского корреспондента Дитмара Штейнера, приятеля Виктора Луи, а главный редактр «Штерна» Наннен и подкинул «Цайту» печатать поскорее, настаивая, что «из очень надёжного источника, автор просит скорее печатать». – Примеч. 1978.
41
Лакшин, по традиционным интеллигентским меркам, обижался: «Наш журнал не либеральный, а демократический», то есть, мол, гораздо левей. Как ни парадоксально, он был октябристским, но не в бандистком кочетовском смысле, а в терминологии предреволюбционной России: они хотели, чтоб именно этот режим существовал, лишь придерживаясь своей конституции.
42
Мне рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками, – и сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне! – тот же психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота, – и практическая безпомощность, и непоспеванье за веком. Ещё и – аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот – и лучше понял каждого из них.
43
Позже, в эмиграции, сообщил мне Б. Г. Закс: в декабре 1970 он посетил А. Т. в больнице. А. Т. говорил с трудом, односложно, «ну как?», «как там?», но с интересом слушал, что ему рассказывали, был очень весел, оживлён, много смеялся (дико кашляя при этом). И на рассказ о моей нобелевской истории произнёс громко, отчётливо: «Так им и надо!» – Примеч. 1986.
44
Коммунист Вооружённых сил. 1971, № 2.
45
С выходом «Августа» на Западе состроились и комические эпизоды. Появилась статья проф. Н. Ульянова, эмигранта, в «Новом русском слове» – «Загадка Солженицына»: открыл он, что никакого Солженицына в природе нет, это – работа коллектива КГБ, не может один человек так дотошно знать и описывать и тюремные процедуры, и виды онкологического лечения, и исторические военные события, да ещё в каждой книге свой новый язык! А переводчик «Августа» на английский М. Гленни, оправдывая свой поспешный и губительный перевод, давал интервью, что «Август» настолько плохо написан по-русски, что ему, Гленни, приходилось целые фразы менять.
46
Что кончилось так благополучно – не вина «Штерна». «Штерн» снова сделал всё возможное, чтобы положить мою голову под топор: взял на себя смелость (и художественное безвкусие) утверждать, что действие «Августа» лишь условно перенесено в предреволюционное время, а на самом деле трактуются современные проблемы.
47
Один из этих корреспондентов, Хедрик Смит, потом неоднократно жаловался, что я встретил их готовым интервью – с вопросами, подготовленными мною же, проявил такое полное непонимание законов западной прессы. Действительно, в моей смертной борьбе с государством я нуждался только в резком защитном ходе, даже лучше бы – публичном заявлении, ни в каком не интервью. А Смит предлагал мне «актуальнейшие» вопросы: о том, что случилось с творческой энергией Евтушенко и Вознесенского, потеряла ли к ним публика интерес, находятся ли стесненья их на прямой линии от преследования Пушкина (западным надо непременно выстроить традицию: царская Россия – коммунистический СССР, иначе не будет глубокомысленности), – или ставил меня в опасное положение вопросом, намерен ли я после «Августа» объяснять также и большевицкую революцию.
Мне же, напротив, с непривычки невыносима оказалась разрыхленная безсвязная форма, в которой эти корреспонденты в их печатном изложении растрясли мои мысли. И я тогда же написал откровенное частное письмо Хедрику Смиту. Отдаляясь от того момента, всё более понимаю, что он должен был и имел право обидеться.
Однако не прошло трёх лет – осенью 1974 Х. Смит посетил нас в Цюрихе и стал просить: не может ли он использовать в «Нью-Йорк таймс» весь материал моего литературного интервью Нильсу Удгорду в «Афтенпостен» (28 августа 1974). Ну перепечатайте. Да нет, настаивал Смит, тогда это не будет новинка, давайте сделаем вид, будто это интервью вы сейчас ещё раз дали мне! Я опять согласился: ведь он знал законы западной прессы (что это? как это выглядит?), а я их не знал. Так он и напечатал: как свою реальную беседу со мной… – Примеч. 1978.
48
(астр.) – точка на небесной сфере, внизу, под ногами наблюдателя, противоположная зениту.
49
Впрочем, из поздних записок Самутина следует, что рукопись у него не была и закопана. – Примеч. 1990.
50
От каких частностей могут зависеть крупные события. Например, многолетняя западная поддержка меня во многом зависела от одной главы в «Раковом корпусе», разговора Шулубина и Костоглотова о социализме. Я написал её чисто экспериментально, пытаясь представить одну из возможных точек зрения, или что может поддерживать такого опустошённого человека, как Шулубин. А на Западе эту главу прочли (художественно – совсем неоправданно) как мой собственный манифест в защиту «нравственного социализма», прочли – потому что хотели прочесть, потому что им надо было видеть во мне сторонника социализма, так заворожены социализмом – только бы кто помахал им той цацкой. Я – не понимал этого тогда совсем, а если б и понимал, то ни для какой тактики не стал бы изгибаться, погнушался бы, никогда я и слова похвалы социализму не сказал, – а вот, истолковали главу. И как сторонника социализма меня и защищали столь дружно, столь едино, до всех левых включительно. Напечатай я в сентябре 1973 «Письмо вождям» или не скради ленинскую главу из «Августа» – сразу бы сорвал всю поддержку. А от поддержки такой – советские власти и были терроризованы настолько, что даже схваченного «Архипелага» использовать не смогли. И «Архипелаг» – сам проложил себе дорогу через эту взбудораженность – куда лучше, чем по моему замыслу появился бы весной 1975, когда Советы в размахе Уотергейта и при конце Вьетнама ощутят свою победоносность. Никаких моих предвидений не хватило бы, все движенья направляла Божья воля. – Примеч. 1978.
51
Публицистика. Т. 1. С. 138–147. – Примеч. 2004.
52
Хотя политические выводы Роя Медведева всегда оказываются те самые, какие наиболее выгодны советскому режиму, – западная левая пресса ещё долго будет превозносить его как крупнейшего в стране социалистического оппозиционера. – Примеч. 1978.
53
Чего я совсем тогда не представлял, ещё не зная западной шкалы оценок: что «Письмом» я только сбил бы весь эффект от «Архипелага» и вырвал бы свою опору в самый решающий момент борьбы. Уберёг меня Бог и тут. – Примеч. 1978.
54
Это ж ещё у них задача: найти страну, которая согласится с ними сотрудничать, меня принять; и как просьбу средактировать. – Примеч. 1978.
55
Смелости у них тогда не хватило: надо было ссылать меня в Сибирь. Покричали бы на Западе – успокоились бы: ведь не в тюрьме же сидит, не срывать из-за него разрядку и торговлю. Ссылка бы – удалась. (А режим содержания подвинтить постепенно.) – Примеч. 1978.
56
Теперь-то – можно бумаге доверить, написано (Пятое Дополнение). А уж печатать – когда??. – Примеч. 1978.
57
И бедного Николая Ивановича разыскал и снова вымучивал проходимец Ржезач для своей гебистской книжки. – Примеч. 1978.
А в 1984 достиг меня слух, что оба Зубовы умерли. Царство им Небесное! – Примеч. 1986.
58
В 1976 Зильберберг издал в Лондоне очень удивившую меня книгу с парткомовским названием «Необходимый разговор с Солженицыным». Он упрекает меня, что я знал о хранении у него моего архива: дескать, в единственную нашу с ним встречу «В. Л. начал что-то тихо говорить вам и я услышал, как он сказал “у него”, указывая на меня рукой, вы кивнули». Всё это – более поздняя конструкция самого Зильберберга: он по забывчивости (не хотелось бы думать, что сознательно) переносит встречу с 23 июня 1964 (чётко помню, потому что – накануне нашего выезда в Эстонию на летнюю там работу) – на июнь 1965. Вторая тут его ошибка: в 1965 ему передан был не «архив» мой, нормально хранимый и вот с правом передаваемый, а случайные осколки его, которые Теуш забыл мне вернуть и только потому теперь сунул Зильбербергу. А на этих двух ошибках Зильберберг строит многие из своих обвинений, особенно нравственные, к которым легко склонен. Центральным событием он считает следствие по делу статьи «Благова» (впрочем – «обращение с нами не напоминало сталинских следователей», «ни один из них не вызвал острой неприязни»), а стало быть, поражён, что я не «примчался» к ним тотчас на совещание, «что и как будем делать дальше». Впрочем, Зильберберг тогда «не старался и не мог докопаться до истинной цели обыска». (По непонятной причине Зильберберг скрыл в публикуемом протоколе обыска фамилии гебистов, жаль.) Но о чём я узнал только теперь из книги Зильберберга: о подозрительных визитах к Теушу ранее того, в начале 1965, подосланных лиц, то за «уроками математики», то за «техническим переводом»; и даже о прямом многочасовом магнитофонном подслушивании откровенного разговора Теуша и Зильберберга во дворе – никогда В. Л. меня об этом не предупредил и сам не стал аккуратней. Ошибается Зильберберг и что я на секретариате СП в 1967 будто первый публично назвал Теуша: потому я и назвал, что его до этого уже многократно прополаскивали лекторы с трибун, и мое публичное соединение наших имён укрепляло его положение. Но книга далеко выходит за пределы этих ошибок, тут разворачивается филиппика против меня.
Заняв в мою сторону учительную позу, после 15-минутного навязанного мне знакомства с ним даёт 150 страниц воспоминаний и разъяснений, со ссылкой на близких им неназванных «знакомых», третьих и четвёртых лиц, которые все кому-то что-то «говорили», – Зильберберг с непрерывной безтактностью поучает сверху вниз, самоуверенно читает мне многие нравственные нотации (как все мелкодушные оппоненты, не упуская ткнуть во мною же произнесенные публично раскаяния и откровенности), да даже вот что: он хочет оказать мне духовную помощь достичь внутренней гармонии. Меня, безнадёжно испорченного ГУЛАГом зэка (позиция также и В. Лакшина), он поучает законам нравственного поведения в нормальном (советском) обществе: я против советской власти применял «низшие» методы, а надо было применять «высшие»; я «в литературно-общественную жизнь вступил с внутренней ложью» (против КПСС) – и она «ржавыми пятнами проступает в очерках /моей/ жизни и во многих /моих/ общественных выступлениях, проникла и в /мои/ художественные произведения». (А уж в моих общественных выступлениях – «аберрация видения, так свойственная» мне.) Моё поведение в единоборстве с Властью – это «поступки советского человека»: как мог я унизиться предъявлять справку о реабилитации (когда меня объявили гестаповцем)? То – зачем я признал себя автором «Пира» (а затем, что он слишком автобиографичен, не отопрёшься), «возня вокруг “Пира”». «Телёнка» он уже прочёл, заметил наконец, какая пылающая рана для меня был тот провал 1965 года, какое всежизненное поражение с замыслом недописанного «Архипелага» и истории 1917 года, – нет, почему я не разрабатывал с ними тактику следствия по статье Теуша. Если Зильберберг настолько не понял ни величины моего тогдашнего груза, ни размеров задачи, – что ж было ему отвечать? Каждого поэта, и не один раз в жизни, должно достичь ослиное копыто. Правильно, что я не ответил тогда же: ответ ему понятен только здесь, в контексте всех «Невидимок».
А лучше бы он объяснил, почему ж не опубликовал, затаил, заморозил полученную им работу Теуша, дружбу с которым он рассматривал «как величайший дар судьбы», «изливалось на меня в виде некоей благодати», «родство душ», со смертью В. Л. «для меня начинается новый этап жизни – без В. Л.», – но вынес приговор, что книга учителя не должна увидеть света? – Примеч. 1986.
59
И до сих пор не тронули. – Примеч. 1978.
60
Сейчас в Самиздате появились записки уже покойного Самутина «Как был взят “Архипелаг”». Из них теперь я с изумлением узнаю, что Самутин (оказывается, давно знавший о моём распоряжении сжечь «Архипелаг», но тоже вступивший с Е. Д. в обман) даже вообще не закапывал рукописи, но просто держал на чердаке дачи, да вместе и с «Кругом»-96, тоже тогда засекреченным. Уж такой допоследней небрежности я не мог вообразить!
Через несколько месяцев появились в печати ещё и другие «мемуары Самутина», написанные под диктовку чекистов, как свидетельствуют вдова и дочь покойного, – а может быть, и ещё правленные в ГБ потом. – Примеч. 1990.
61
Много лет спустя, в эмиграции, писал мне Я. Виньковецкий: следователь, допрашивая вскоре после смерти Е. Д. его сотрудницу по геологическому институту, с гордостью сказал ей: «После моих допросов люди вешались». – Примеч. 1986.
62
Теперь из мемуаров Самутина (истинной части их) можно уточнить: в эти же часы 29-го гебисты задержали его на улице, повезли в Большой Дом – и он сразу взялся отдать им «Архипелаг». (Удивляюсь, старый лагерник, бывший власовец, столь необычно допущенный в Ленинград, в такой шаткой позиции, он в записной книжке имел множество адресов людей, которых теперь мог потащить за собой, и оброс обильным самиздатом, боялся теперь, что откроется тот самиздат, – это рядом с «Архипелагом»! и больше всего боялся травмировать жену и детей домашним обыском… Но не подвергся и личному.) В ночь на 30-е гебисты на его даче получили «Архипелаг». Ясно, что обязали и молчанием: никому о том ни звука. Но утром 30-го спохватились, что им нужна расписка, что он сдал – добровольно, и его ещё раз тягали на встречу в Европейской гостинице. – Примеч. 1990.
63
А Самутин, всю дорогу скрывавший от спутников, что взят «Архипелаг», тут, пишет, сказал Эткинду: «Всё – у них, смерть Е. Д. связана с этим». Но Эткинды не знали, что такое могло быть всё, они не знали о самовольном хранении «Архипелага». Они подумали: какой-то-архив Е. Д.? – Примеч. 1990.
64
Это было тогда же рассказано нам из круга Копелева-Эткинда, но Самутин ничего об этом сюжете не пишет. Боится ли впутать жену? Но, видимо, с 30-го на 31-е разобрала его совесть, что об «Архипелаге» надо предупредить автора, нельзя же молчать; а может быть – жена сделала эта сама, без ведома Самутина? – Примеч. 1990.
65
Подаренный Кью «Реквием» Верди – со мной в Вермонте, и каждый год 28–30 августа я ставлю в её память. – Примеч. 1978.
В ноябре 1985 получаю письмо от неизвестной мне штейнерианки Иоганны Фишер из Швейцарии: Елизавета Воронянская, никогда не знакомая ей при жизни, стала часто к ней приходить, прося передать мне, чтобы я ревностно помог ей в её нынешнем положении. Она является к Иоганне в виде тени и издали.
А я – и молюсь за неё, ещё бы… – Примеч. 1986.
66
И перележал «Архипелаг» вместе с «Танками» сохранно 20 лет у благородно-безстрашного Алексея Алексеевича Ливеровского, теперь откопан. – Примеч. 1989.
67
Годами позже я узнал, что с конца 1974 – и даже до 1979 – её дёргало ГБ, ведь сколько же лет не унялись! Читали ей состряпанный «обвинительный материал» (и всё мимо…), склоняли выступить против меня через АПН, но она не колебнулась, устояла твёрдо. – Примеч. 1990.
68
Наступило новое время горбачёвской «гласности» – и Люша же первая теперь крикнула в «Книжном обозрении» – обо мне и чтобы меня вернули на родину, правда невольно подглаживала меня при этом под советского. В редакцию хлынуло множество благодарных и сколько-то возмущённых писем. Читателям выглядело Люшино выступление как чей-то голос со стороны, никто не знал, сколько сил, времени и сердца отдала она этому автору. – Примеч. 1990.
69
Нет, не так легко это завершилось, как может представиться. КГБ всё-таки вызвало Александра Александровича в 1974 и выказало знание некоторых деталей – например, в той погоне за убежавшим «Телёнком» в рождественский сочельник, какую подстроила нам безпечность А. С. и какая стоить могла Александру Александровичу головы. (И ещё ж я его в тот день укорил, подозревал в утечке.) Но то ли по сочельнику, как в рождественской сказке, – всё должно было закончиться благополучно. Этот допрос на Лубянке А. А. записал и переслал мне в Вермонт – и мне не передать всего того воздуха лучше [44]. – Примеч. 1978.
70
Прошли годы – мы всё обменивались записочками из-за границы, знали о радостях Царевны: то вновь посетила тундру – очень её любила, то купила под Москвой садовый участок, то вместе с Евой, Данилой, Люшей отдыхают в Крыму – сдружило их всё прежнее. Только она и знала о поездке Евы к нам в Вермонт – и у неё-то на подмосковной дачке читался вслух предыдущий, 9-й очерк «Невидимок». Эта живая непригнутая весть от нас к ним была прямо неправдоподобна; Ева рассказывала им подробности о Вермонте, чего нельзя под московскими потолками. А в конце 1983 у неё были гебисты с обыском (когда сжималось кольцо вокруг Евы, вокруг Фонда), забрали мои книги, требовали объяснения, откуда они, ответила просто: «Дружила с ним с 60-х годов». Отвязались. – Примеч. 1986.
71
Всё же, по большой осторожности, ему удалось избежать всяких гебистских подозрений – и он продолжал пользоваться заграничными командировками, поражая и радуя нас в Цюрихе вдруг внезапным звонком из Парижа, в Вермонте – письмом из Италии. (И какова же судьба советских! – «Тут есть и другие люди из СССР, поэтому я с трудом побарываю подозрение, что каждое моё движение, и, в частности, это письмо, подсматриваются. Так что не удивляйтесь следам болезненной конспирации даже в этом письме».) Но в этих письмах он – и почти единственный в то время с родины, прорывая глухоту, – давал развёрнутые, глубокие отзывы на Узлы, особенно дорогие нам тогда. – Примеч. 1986.
72
Только теперь узнаю: они с друзьями, без моего ведома, охраняли меня в Переделкине после моего письма съезду писателей. – Примеч. 1990.
73
Выход в свет «Телёнка» неблагоприятно отразился на Анне Самойловне, всего не предусмотреть. Не мог я обойти похвалы и благодарности ей – а за то приказано было редакции «Нового мира» не давать ей больше приработков, частных заказов, попала она как в блокаду. А тут ещё стала и слепнуть. (Напротив, обруганный мною в «Телёнке» А. Д. Дементьев благодаря этому вошёл в моду у казённых кругов.) – Примеч. 1978.
74
Знаменитая кулинарка, Надежда Васильевна ещё потом много лет по памятным дням собирала у себя на Левшинском всех наших сознакомленных друзей, давая им соединиться в юбилеи и печальные годовщины. На Покров 1982-го стало ей худо, и она в сутки умерла, от тромба в сердце (было ей 81). Отпевали её у Николы в Кузнецах, и привалило множество народу. В ночь перед похоронами случилась в Москве нековременная вьюга, насыпало снегу, и хоронили её на Ваганькове, как зимой, цветы и свечи на снегу. – Примеч. 1986.
75
А после смерти Евы в 1984 – взяла на себя тайную артерию помощи нашего Русского Общественного Фонда, – правда, и провалили её на этом в 1986, первый крупный провал Фонда, – и сегодня терзают её гебисты. – Примеч. 1986.
76
Такой хрупкий, трепетал перед арестом (нависавшим над ним за самиздатскую «Хронику текущих событий») – а справился со следствием хорошо: от каких-то несчастных вначале показаний он потом нацело отказался, как приобрёл второе дыхание, твёрдо прошёл суд, со всей своей хрупкостью твёрдо вынес и тюрьмы, и карцеры, и лагеря – в 1978 сослан в Северный Казахстан. – Примеч. 1978.
77
У Прицкера были потом большие неприятности: ему угрожали увольнением. Он возразил: «Но Таврический дворец – не атомная подводная лодка?» Ему начальство: «Таврический дворец – учреждение режимное!» Потребовали письменного объяснения, Д. П. написал, что не знает фамилии человека, которого водил по дворцу. Начальство – не имело доказательств, и это уберегло его.
А я-то теперь, уже кончив «Март», не наблагодарюсь: что б я делал, не повидав Таврического своими глазами изнутри?! – Примеч. 1990.
78
Дружба наша сперва продолжалась и за границей, Е. Г. побывал у нас в Цюрихе, встречались мы несколько раз в Париже (делился я с ним моим проектом создать Русский университет за границей, спрашивал мнения). Но потом – переменилось. Спустя два-три года Эткинд выступил против меня публично: заявил, будто я хочу для России нового византизма, и в самый разгар казней в Иране, вызывавших содрогание во всём мире, – что я хочу для России нового Аятоллу, а русские аятоллы будут ещё хуже иранских! Это – необъяснимо было для меня. Мне пришлось ответить ему тоже публично – «Персидский трюк», осень 1979. А дальше – Эткинд стал одним из повсеместных нашёптывателей о моих никогда не бывших теократизме и антисемитизме. – Примеч. 1986.
79
После его выезда на Запад и взаимно примирительных писем он, однако, легко влился в ту клеветническую накипь, которую вздували вокруг меня иные третье-эмигранты. В 1985 наши отношения в последнем обмене писем оборвались. – Примеч. 1986.
80
А когда чекистский агент Ржезач шнырял за клеветою против меня по свидетелям моей жизни – то как объяснить, что большинство не добыто им, не упомянуто, не привлечено в его грязную книгу? Не тем ли, что они отклонили, устояли? Он не мог не добиваться показаний – от Лидии Ежерец, моей школьной соученицы. От друзей студенческого времени – Эмиля Мазина и Михаила Шленёва. От фронтовых моих командиров генерал-майора Травкина, подполковника Пшеченко, майора Пашкина, и более всего – от фронтового моего приятеля и соратника Виктора Васильевича Овсянникова – именно и особенно потому, что ныне он – подполковник госбезопасности. А вот же – ничего подходящего никто из них не показал, не выступил под прожекторы лжи, – и значит, кем же остался? Невидимкой. – Примеч. 1978.
81
Пугали и мать его, А. Я. Захарову, вызывали её в КГБ и как бы дружески (она многие годы работала радиоинженером в системе их): «Надо спасать Андрея, ходит на Козицкий». После нашего отъезда Андрею отомщали ежегодными переаттестациями: вне всяких законов и порядков, при блестящем докторстве, его мурыжили и мыкали по кабинетам и научным советам, не утверждая профессором, и всё вели «социально-политические» допросы.
А в главном – обошлось. Божьим покровом. – Примеч. 1978.
82
Капитан Клементьев так и войдёт в «Март Семнадцатого» под своим именем, со своей биографией. – Примеч. 1986.
83
Как потом в Англии рассказала мне участница его «артели», – Гленни раздал весь «Август» по клочкам своим аспирантам, они и переводили, кто в лес, кто по дрова. – Примеч. 1978.
84
И даже взялся он за действия более крупные и сложные: он был главным звеном той цепи, что осуществляла всю помощь Русского Общественного Фонда от нас в СССР. Следующая за ним была Ева, потом Алик Гинзбург (а после его ареста включился вслед Еве ещё Боря Михайлов). На них и держалась вся объёмная и остро опасная работа.
В отличие от Татищева Ив был чрезвычайно осмотрителен, выдержан – и министерство иностранных дел Франции охотно оставило его на второй срок, ещё после 1977. То-то мы радовались! Звали мы его «Фей», не произнося его имени под потолками даже западными. В 1975 он рискнул приехать к нам в Цюрих. Оказался нежен, сдержан и молчалив. – Примеч. 1978.
85
Всегда Татищев легко принимал и пересылал письма – ведь нешуточная лилась у нас все годы переписка из Европы с Россией, с десятками людей. Но, воротясь из России, он сердце оставил там и не мог уже удовлетвориться прежней парижской жизнью. С 1975 на 1976 он дважды ездил в Москву туристом, сошло благополучно, но, очевидно, наделал неосторожностей. Когда снова поехал летом 1977 – за ним установили открытую плотную слежку, предупреждали: «ноги переломаем». Он не испугался, еле оторвался от них на каком-то базаре, уверяет, что начисто, счастливо, приехал после того к Царевне, ещё что-то передал, – но по возврату в гостиницу был тотчас выслан из страны.
А через 8 лет он умер от рака, почти внезапно, ещё совсем молодым. Из последних дел его для родины, теперь для него закрытой, было: установить радиовещание на Россию, «Голос Православия». – Примеч. 1986.
86
Нильс докончил свой срок в СССР, а Стиг даже и перебыл и в своё агентство вернулся с повышением. – Примеч. 1978.
87
Теперь умерла и Марья Акимовна. Не знаю: унесла ли с собой тайну или и не было её. – Примеч. 1986.
88
Громославский ещё жив был в 50-е годы, тогда-то и появилась 2-я книга «Поднятой целины», а после смерти Громославского за 20 лет Шолохов не выдал уже ни строчки. Я указывал на это в статье о «Поднятой целине» («По донскому разбору», Вестник РХД, № 141, 1984), где заодно ответил и на смехотворный компьютерный анализ норвежского слависта Гейра Хьетсо и его коллег, пытавшихся доказать авторство Шолохова. – Примеч. 1986.
89
В 1988–89 в израильском журнале «22» (№ 60 и 63) опубликовано исследование Зеева Бар-Селла «“Тихий Дон” против Шолохова», очень убедительный текстологический анализ, – то самое, что и ожидалось давно. – Примеч. 1990.
90
Мы, в интересах детей И. Н., должны были ещё 15 лет скрывать имя автора, давая повод насмешкам, что я этого Д* сам придумал.
А в 1989 из письма д-ра филологических наук В. И. Баранова в «Книжное обозрение» я узнал: когда в 1974 вышла книга «Стремя “Тихого Дона”» – в СССР готовили громкий ответ. Сперва поручили К. Симонову дать интервью журналу «Штерн» (ФРГ), он это выполнил. Затем ждали: когда на Западе на него обратят внимание – тут и дать залп статьями в «Литгазете», «Вопросах литературы» и «Известиях». И статьи были написаны – но… но на Западе симоновское интервью прошло без отклика. Приготовленные статьи всё же напечатали – но как бы к 70-летию Шолохова, так и не коснувшись книги Д*. А ныне так пишут в советской прессе, что будто именно книга Д* сбила Шолохова и не дала ему кончить уже 30 лет длимый роман «Они сражались за Родину» – да так, что и ни строчки к начатой в войну книге не прибавилось. – Примеч. 1990.
91
Заместитель начальника 5-го Управления КГБ, генерал, ведавший инакомыслием.
92
Опубликованы с сокращениями в московском ежемесячнике «Совершенно секретно», 1992, № 4.
Борис Александрович Иванов – профессиональный чекист, работал более 30 лет в органах госбезопасности Краснодара, Грузии, Литвы. С 1967 по 1976 годы занимал должность начальника одного из подразделений идеологического отдела Управления КГБ Ростовской области.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
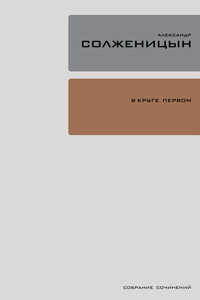
Во втором томе 30-томного Собрания сочинений печатается роман «В круге первом». В «Божественной комедии» Данте поместил в «круг первый», самый легкий круг Ада, античных мудрецов. У Солженицына заключенные инженеры и ученые свезены из разных лагерей в спецтюрьму – научно-исследовательский институт, прозванный «шарашкой», где разрабатывают секретную телефонию, государственный заказ. Плотное действие романа умещается всего в три декабрьских дня 1949 года и разворачивается, помимо «шарашки», в кабинете министра Госбезопасности, в студенческом общежитии, на даче Сталина, и на просторах Подмосковья, и на «приеме» в доме сталинского вельможи, и в арестных боксах Лубянки.

100-летию со дня начала Первой мировой войны посвящается это издание книги, не потерявшей и сегодня своей грозной актуальности. «Август Четырнадцатого» – грандиозный зачин, первый из четырех Узлов одной из самых важных книг ХХ века, романа-эпопеи великого русского писателя Александра Солженицына «Красное Колесо». Россия вступает в Мировую войну с тяжким грузом. Позади полувековое противостояние власти и общества, кровавые пароксизмы революции 1905—1906 года, метания и ошибки последнего русского императора Николая Второго, мужественная попытка премьер-министра Столыпина остановить революцию и провести насущно необходимые реформы, его трагическая гибель… С началом ненужной войны меркнет надежда на необходимый, единственно спасительный для страны покой.
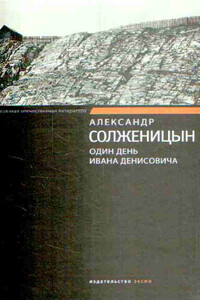
Рассказ был задуман автором в Экибастузском особом лагере зимой 1950/51. Написан в 1959 в Рязани, где А. И. Солженицын был тогда учителем физики и астрономии в школе. В 1961 послан в “Новый мир”. Решение о публикации было принято на Политбюро в октябре 1962 под личным давлением Хрущёва. Напечатан в “Новом мире”, 1962, № 11; затем вышел отдельными книжками в “Советском писателе” и в “Роман-газете”. Но с 1971 года все три издания рассказа изымались из библиотек и уничтожались по тайной инструкции ЦК партии. С 1990 года рассказ снова издаётся на родине.
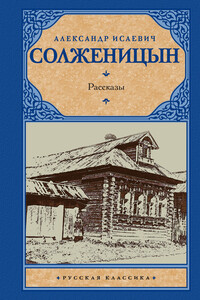
В книгу вошли рассказы и крохотки, написанные А.И. Солженицыным в периоды 1958–1966 и 1996–1999 годов. Их разделяют почти 30 лет, в течение которых автором были созданы такие крупные произведения, как роман «В круге первом», повесть «Раковый корпус», художественное исследование «Архипелаг ГУЛАГ» и историческая эпопея «Красное Колесо».

Роман А.Солженицына «В круге первом» — художественный документ о самых сложных, трагических событиях середины XX века. Главная тема романа — нравственная позиция человека в обществе. Прав ли обыватель, который ни в чем не участвовал, коллективизацию не проводил, злодеяний не совершал? Имеют ли право ученые, создавая особый, личный мир, не замечать творимое вокруг зло? Герои романа — люди, сильные духом, которых тюремная машина уносит в более глубокие круги ада. И на каждом витке им предстоит сделать свой выбор...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в «Русском журнале» 22 декабря 2011 г. http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Bunt-kastratov.

Опубликовано в журнале «Левая политика», № 10–11 .Предисловие к английскому изданию опубликовано в журнале «The Future Present» (L.), 2011. Vol. 1, N 1.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Правда не нуждается в союзниках» – это своего рода учебное пособие, подробный путеводитель по фотожурналистике, руководство к действию для тех, кто хочет попасть в этот мир, но не знает дороги.Говард Чапник работал в одном из крупнейших и важнейших американских фотоагентств, «Black Star», 50 лет (25 из которых – возглавлял его). Он своими глазами видел рождение, расцвет и угасание эпохи фотожурналов. Это бесценный опыт, которым он делится в своей книге. Несмотря на то, как сильно изменился мир с тех пор, как книга была написана, она не только не потеряла актуальности, а стала еще важнее и интереснее для современных фотографов.

В рубрике «Документальная проза» — газетные заметки (1961–1984) колумбийца и Нобелевского лауреата (1982) Габриэля Гарсиа Маркеса (1927–2014) в переводе с испанского Александра Богдановского. Тема этих заметок по большей части — литература: трудности писательского житья, непостижимая кухня Нобелевской премии, коварство интервьюеров…

От имени Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в Европу послан интернационалистский Манифест «К народам мира». Революция разливается по стране, автор показывает нам фронт, деревню, железные дороги, Церковь, донских казаков, волжское купечество и возвращается каждый раз в Петроград, где читатель наблюдает, как самозваный Исполком фактически контролирует и направляет Временное правительство. В редакции «Правды» – разногласия верного ленинского последователя Шляпникова и прибывшего из сибирской ссылки Каменева (свергать Временное правительство или поддерживать?)

В 4-5-6-м томах Собрания сочинений печатается «Архипелаг ГУЛАГ» – всемирно известная эпопея, вскрывающая смысл и содержание репрессивной политики в СССР от ранне-советских ленинских лет до хрущёвских (1918–1956). Это художественное исследование, переведенное на десятки языков, показало с разительной ясностью весь дьявольский механизм уничтожения собственного народа. Книга основана на огромном фактическом материале, в том числе – на сотнях личных свидетельств. Прослеживается судьба жертвы: арест, мясорубка следствия, комедия «суда», приговор, смертная казнь, а для тех, кто избежал её, – годы непосильного, изнурительного труда; внутренняя жизнь заключённого – «душа и колючая проволока», быт в лагерях (исправительно-трудовых и каторжных), этапы с острова на остров Архипелага, лагерные восстания, ссылка, послелагерная воля.В том 5-й вошли части Третья: «Истребительно-трудовые» и Четвертая: «Душа и колючая проволока».

В 4-5-6-м томах Собрания сочинений печатается «Архипелаг ГУЛАГ» – всемирно известная эпопея, вскрывающая смысл и содержание репрессивной политики в СССР от ранне-советских ленинских лет до хрущёвских (1918–1956). Это художественное исследование, переведенное на десятки языков, показало с разительной ясностью весь дьявольский механизм уничтожения собственного народа. Книга основана на огромном фактическом материале, в том числе – на сотнях личных свидетельств. Прослеживается судьба жертвы: арест, мясорубка следствия, комедия «суда», приговор, смертная казнь, а для тех, кто избежал её, – годы непосильного, изнурительного труда; внутренняя жизнь заключённого – «душа и колючая проволока», быт в лагерях (исправительно-трудовых и каторжных), этапы с острова на остров Архипелага, лагерные восстания, ссылка, послелагерная воля.В том 4-й вошли части Первая: «Тюремная промышленность» и Вторая: «Вечное движение».

Первый том 30-томного собрания сочинений А.И.Солженицына являет собой полное собрание его рассказов и «крохоток». Ранние рассказы взорвали литературную и общественную жизнь 60-х годов, сделали имя автора всемирно известным, а имена его литературных героев нарицательными. Обратившись к крупной форме – «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное Колесо», – автор лишь через четверть века вернулся к жанру рассказов, существенно преобразив его.Тексты снабжены обширными комментариями, которые позволят читателю в подробностях ощутить исторический и бытовой контекст времени.