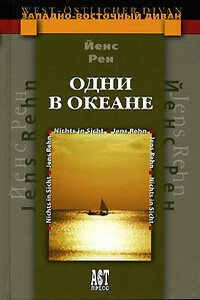или на его особые заслуги. О последнем говорило уже одно то, что он стал профессором. Кроме того, он был барон. Казалось, на отца его титул производил еще большее впечатление, чем звание профессора. Поэтому отец был весьма польщен, когда после долгого изучения бумаг профессор поднял на него глаза и спросил: «Так вы, значит, из Раковица, что в округе Гостынин?» Не успел отец отреагировать на его слова, как профессор сказал, что, в отличие от его предков по отцовской линии, живших в России, дедушка по материнской линии тоже был родом из округа Гостынин и владел там большим имением, но имение это, как и все остальное, теперь потеряно. Во всяком случае, пока. Отец, воодушевленный этой общностью, сказал: «Почва в Раковице была хороша, особенно для пшеницы», на что профессор возразил, что качество почвы зависит от людей, которые ее обрабатывают. Его родные, во всяком случае, умели извлекать выгоду из любой почвы, в то время как русские способны только испортить любую почву. Отец удивился, мать тоже слегка вздрогнула, так как о русских до сих пор не было речи, и оба, похоже, не были настроены говорить о своем опыте общения с русскими. «В Раковице мы имели дело только с поляками», — сказал отец. «В Раковице II», — поправил профессор. Сам же он родом из Раковица I, расположенного в непосредственной близости от Раковица II. Раковиц I — чисто немецкое селение, тогда как Раковиц II населяли исключительно поляки. Раковиц I заселили и сделали пригодным для хлебопашества его предки, сказал профессор, а когда они прежнюю болотистую местность превратили в плодородное пахотное поле, появились поляки и поселились в Раковице II. «И устроили там ужасный бедлам», — подтвердил отец. По Раковицу I уже издали было видно, что это немецкая деревня, а Раковиц II точно так же уже издали говорил о том, что его населяют поляки. Все как попало, никакого порядка. В огородах свалка, на дорогах грязь и выбоины, дырявые заборы, хлев без дверей, гуси и куры бродят по всей деревне. В конце концов польские крестьяне из Раковица II настолько обнищали, что стали наниматься в батраки к немцам из Раковица I. А все из-за неумения поддерживать порядок. «Русских, — изрек профессор, поднимая голову от бумаг, в которые все это время был погружен, — нельзя использовать даже в качестве батраков». Он замолчал, закурил сигарету, которую вынул из обтянутого кожей металлического портсигара, и снова стал перелистывать лежавшие перед ним бумаги. Через несколько минут он оторвался от бумаг и сказал, что сейчас он рассматривает данные об отпечатках стоп найденыша 2307, которые потом надо будет сравнить с данными наших отпечатков. «Это еще сегодня сделает наша лаборантка, завтра мы будем знать больше». Ему же самому следует заняться особенностями строения головы, и он хочет приступить к делу немедленно. Сначала профессор исследовал родителей, а я ждал в приемной. Со своего места я мог наблюдать за лаборанткой, которая тем временем возилась с отлитыми из гипса формами стоп. Судя по всему, в этот день других клиентов у нее не было, и она могла целиком посвятить себя нашему делу. Правая стопа отца, правая стопа матери и моя правая стопа стояли перед ней на столе. Она как раз окрашивала темно-синим раствором, похожим на чернила, ступню отца, включая пальцы и пятку. Затем взяла окрашенную стопу и прижала ее, словно штемпель, к большому белому листу бумаги. Осмотрев результаты своей работы, она, кажется, осталась ими довольна, так как сразу же взялась за стопу матери, а потом и мою. Стопа матери, а также и моя стопа доставили ей куда больше хлопот. Она не могла работать с ними как со штемпелем, ей приходилось делать отпечатки с разных частей ступни, каждый раз подкрашивая их заново. Если бы она выбрала левую, менее плоскую стопу отца, тогда и ее она не смогла бы пришлепнуть к бумаге, как штемпель. Я подумал, что лаборантка, если возникнут сомнения, предпочтет делать гипсовые отпечатки с плоских стоп, чтобы облегчить себе работу. А это значит, что найденыши с плоскостопием имеют в целом больше шансов на идентификацию кровного родства. Стало быть, я со своими ногами, похожими на левую, кривую и вогнутую стопу отца, имел бы меньше шансов соединиться со своими родителями. К счастью, я не найденыш. К счастью, найденышем был номер 2307, и у меня все еще оставалась надежда, что и у найденыша 2307 окажутся вогнутые и кривые стопы, а не плоские и мясистые. Когда родители снова заняли свои места в приемной, в кабинет профессора Либштедта позвали меня. Профессор сидел за письменным столом и курил. На этот раз он не листал лежавшие перед ним бумаги, а неподвижным взглядом смотрел в открытое окно, за которым догорал ясный пока день. Перед его лицом клубились струйки дыма, сквозь дым я увидел, как на золотую оправу очков упал солнечный луч и отбросил световые блики на потолок профессорского кабинета. Я поднял голову, чтобы разглядеть маленькие пятнышки, и обнаружил, что потолок не белили, видимо, уже много лет и что старая краска побурела и большими лоскутами отваливается от потолка. Некоторые из этих лоскутов, казалось, держались на ниточке и грозили раньше или позже шлепнуться на голову профессора. Кроме того, я обнаружил на потолке полдюжины дырок, похожих на маленькие кратеры и наведших меня на мысль об отверстиях от пуль, хотя прежде я их никогда не видел. «Это отверстия от пуль, — внезапно подтвердил профессор, который смотрел уже не в окно, а наблюдал за тем, как я разглядываю потолок. — Со времен войны, — добавил он, — но это не имеет отношения к делу». Он поднялся со своего стула, подошел ко мне, погладил меня по затылку, сказал, что здание требует ремонта, потом добавил, что я, видимо, смышленый парнишка, правда, немного жирноват, как сказала ему лаборантка, да это и так видно. Он все еще поглаживал мой затылок, при этом его поглаживание постепенно превращалось в ощупывание задней части головы, так что под конец он меня уже не гладил, а кончиками пальцев сильно сжимал мой череп и одновременно большим пальцем ощупывал бугорки и выпуклости на моей голове. У меня под рукой профессора слегка закружилась голова, хватка его пальцев была значительно сильнее, чем можно было ожидать от этого тщедушного человека. Одной рукой он ощупывал мою голову, в другой держал сигарету и курил. Наконец он раздавил сигарету в пепельнице и начал исследовать мой череп обеими руками. Раньше я никогда не ощущал, что у меня на голове есть бугорки и выпуклости, теперь же мне казалось, что мой череп только из них и состоит. Чем дольше ощупывал меня профессор, тем больше бугорков и выпуклостей обнаруживалось на моей голове и тем сильнее меня охватывал стыд за эти бугорки и выпуклости. И точно так же, как до обеда, во время исследования строения тела, я начал пылать жаром и потеть. Но на этот раз пот проступал не на животе и груди, а на голове. И чем больше потела моя голова, тем сильнее я стыдился того, что профессор держал в своих руках мою мокрую вспотевшую голову. Но профессор, казалось, не обращал на это внимания. Он закончил ощупывать мою голову, вымыл, ни слова не говоря, руки, вытер их, сделал несколько заметок и приступил к измерению головы. Для этого он взял в руки деревянные щипцы, как и те, что предназначались для измерения жировой прослойки, они тоже были снабжены делениями с цифрами, но открывались значительно шире. Он приложил щипцы к голове сначала спереди, потом с боков, записал полученные данные и взял в руки совсем другой инструмент, напоминавший струбцину, с помощью которого он устанавливал то, что на его языке называлось относительной шириной угла челюсти. «Относительная ширина угла челюсти, — сказал профессор, зажимая мою верхнюю челюсть между струбцинами, — может решить все. Если относительная ширина угла челюсти совпадает, тогда очень часто совпадают также ширина лба, ширина скул, ширина уха и носа, а иногда даже и длина спинки носа». Мне льстило, что профессор посвящает меня в тайны своей профессии, но я молчал, целиком сконцентрировавшись на боли, причиняемой мне обоими винтами, которыми струбцина крепилась к моей челюсти. Из замечаний профессора я понял только то, что сейчас он начнет измерять ширину лба, скул, носа и уха. К счастью, струбцину он применил только для измерения ширины лба и скуловой кости, а нос и уши измерил сначала рулеткой, а потом похожим на циркуль инструментом. Похожий на циркуль инструмент был оснащен не острым металлическим наконечником, а двумя резиновыми присосками, которые совершенно безболезненно прикреплялись к коже. Измерение носа и ушей прошло также безболезненно и продолжалось всего несколько минут. Сделав свою работу, профессор отпустил меня в приемную, где меня дожидались уже полностью одетые родители. Когда мы выходили из института, я пожаловался родителям, какую боль причиняла мне прикрепленная к челюсти струбцина, но они на это никак не отреагировали. Мне хотелось, чтобы меня хоть немножко пожалели, но никто меня не пожалел. Только когда я сказал, что профессор тыкал мне в лицо циркулем, мать испугалась и проверила, нет ли на моем лице повреждений или следов крови. Разумеется, она ничего не обнаружила, и мне не оставалось ничего другого, как рассказать родителям, что в кабинете профессора стреляли. Но и эти мои слова не возымели действия, отец лишь прошипел: «Ну, хватит!» Я замолчал и шел за родителями, которые решили посвятить остаток дня осмотру города. Так как лаборатория находилась на северном берегу реки, мы прошли через мост, и мать заметила, что этот мост по-особому раскачивается. Эти сведения она почерпнула из проспекта, который ей дала хозяйка нашего пансиона. Мост представлял собой массивное каменное сооружение, построенное из больших, уже слегка выветренных буроватых блоков, и совсем не раскачивался. В верхней точке моста мы остановились и стали смотреть на реку. Все еще ожидая, когда же мост начнет раскачиваться, я увидел, как отец положил руку на плечи матери, а она слегка наклонила голову, коснувшись щекой его плеча. Мне еще не доводилось видеть, чтобы мать вот так наклоняла голову, и мне почему-то стало грустно. Я попытался рассеять грусть, подпрыгивая и как можно сильнее топая, чтобы все-таки заставить мост раскачиваться. Обрушься мост в этот момент, я не имел бы ничего против. Но он не обрушился. Даже не качнулся. Я не почувствовал ни малейшего движения. Родители не обратили внимания на мои попытки и пошли дальше. В конце моста они остановились, чтобы осмотреть памятник. В проспекте говорилось, что это памятник некоему Карлу Теодору, которого также называли отцом земли Пфальц. Цоколь памятника окружали речные боги Рейна, Дуная, Мозеля и Изара. Я внимательно рассмотрел богов и с удовольствием измерил бы обнаженному богу Рейна слой жира на животе, чтобы определить индекс Рорера. У бога Рейна по носу шла какая-то странная канавка, она тянулась вдоль всего носа до самого кончика, и я подумал, что кто-то измерял длину носа божества, пользуясь при этом не тем инструментом. Я прикинул, что длина носа составляла примерно двадцать сантиметров, что было довольно много, и поспешил вслед за родителями, которые не проявили интереса к речным богам и прошли вперед. «У Рейна канавка на носу», — сообщил я родителям. Они промолчали, и я добавил, что длина носа Рейна примерно двадцать сантиметров. Родители по-прежнему молчали, они свернули в переулок, ведущий к замку. Я забавлялся тем, что бежал по переулку зигзагами, но каждый раз догонял родителей и шел за ними так близко, что они, обернувшись, меня бы не увидели. Держась так у них за спиной, я услышал, как мать сказала отцу, что и для «него» — она имела в виду меня — это не всегда просто, на что отец возразил, что это непросто для всех, но для «него» — он имел в виду меня — это проще всего. Я услышал больше чем надо и продолжил свой бег зигзагами; в конечном счете я проделал тройной путь и изрядно запыхался. От осмотра замка в моей памяти осталось совсем немногое, так как я почти все время думал о словах отца. Что касается меня, я всегда считал, что труднее всего приходится мне, отец же полагал, что мне легче, чем ему с матерью. Но мне не было легче, чем им. Если кому и было легче всех, так это Арнольду. Ему не надо было убирать комнату, делать домашние задания, быть примерным мальчиком, к тому же родители постоянно думали только о нем. Если мать грустила, то грустила она об Арнольде. Если отец отправился в Гейдельберг, то сделал это ради Арнольда. И если мы сейчас осматривали замок, то тоже из-за Арнольда. Замок представлял собой руины, которые отец сразу же определил как руины войны. «Но его разрушили не бомбы, — сказала мать, заглянув в проспект, — а артиллерийские снаряды». «Война есть война», — сказал отец, которого больше не интересовали руины замка; ему хотелось вернуться в пансион. Только в пансионе мать обнаружила, что мы не осмотрели винный подвал замка и особенно большую бочку, выставленную в этом подвале. «В следующий раз», — буркнул отец, но мы знали, что следующего раза не будет. Родители еще ни разу не уезжали надолго из дома, и я тоже. Поездка в Гейдельберг, рассчитанная на три дня, была единственным путешествием, которое я предпринял с родителями. Родители не путешествовали, утверждая, что их держат дома дела. На самом же деле они не путешествовали из-за своего бегства с востока на запад. Правда, бегство не было путешествием, но любое путешествие напоминало им бегство. Крестьянин из Раковица добровольно свой дом не покидает. Покидать свой дом — грех. Кто покидает свой дом, того подстерегают русские. Если покинешь свой дом, его разграбят и разрушат. Я был уверен, что мы завтра же отправимся домой и никогда больше не увидим большую бочку. И никогда больше не пройдемся по мосту с речными богами. Прежде чем пуститься в обратный путь, мы еще раз наведались в судебно-антропологическую лабораторию, чтобы узнать результаты исследования ступней. Результаты исследования головы и строения тела нам сообщат позже в письменной форме. На этот раз мы явились без опоздания, но были приняты не лаборанткой, а лично профессором. Он провел нас в кабинет, где перед письменным столом уже стояли три стула. Мы сели, профессор тоже занял свое место, вынул обтянутый кожей портсигар, но передумал и отложил его в сторону, открыл папку с документами и сказал, что сравнение стоп дало не такие уж плохие результаты. Во всяком случае, у матери такая же заостренная, выходящая наружу плюсна, сказал он, взглянув на отца, кроме того, подушечка ее большого пальца отличается сильно разветвленной и хорошо развитой продольной петлей, в то время как подушечке большого пальца отца свойственны большое дискообразное закругление и маленькое ядро в центре. Напротив, продолжал он, переводя взгляд на мать, у родившегося в браке сына — тут он имел в виду меня — есть спиральное закругление, но нет трирадиуса. У найденыша 2307 тоже нет трирадиуса, в то время как у обоих родителей он наличествует. Из слов профессора я сделал вывод, что мои ступни родственны ступням найденыша 2307, но никак не ступням родителей. Трирадиуса, чем бы эта штуковина ни была, у меня нет, и у найденыша его тоже нет. И я походил на Арнольда, точнее, на фото Арнольда, откуда можно было заключить, что круг, в котором находились я, Арнольд и найденыш 2307, все более сужался. Если я походил на Арнольда и на найденыша 2307, то Арнольд и найденыш тоже подходили друг к другу, и, значит, скоро в нашем доме будет на одного едока больше. Теперь все зависело от сравнения стоп найденыша и отца. Результат оказался положительным. У найденыша, как и у отца, сказал профессор, на подушечке большого пальца присутствует дискообразное закругление. Кроме того, у отца не только широкая ступня, но и ясно выраженная широкая плюсна, что совпадает с широкими ступнями найденыша 2307 и рисунком его плюсны. Везет же этому 2307, подумал я, правая ступня отца совпадает с его ступнями. На какое-то мгновение я пожалел, что не обратил тогда внимание лаборантки на разные стопы отца. А сейчас уже было поздно. Родители обрадовались положительному результату, во время разъяснений профессора мать взяла отца за руку и несколько раз крепко сжала ее. Им оставалось только узнать окончательное заключение экспертизы, так как не только я, но и родители не очень понимали, что такое петля и дискообразное закругление большого пальца. «Господин барон, — спросил отец, — и что же все это значит?» «Это значит, — ответил профессор, — что родство с найденышем не исключено. Правда, — продолжил он, — исследование стоп не позволяет прийти к однозначному выводу о родстве». Он сделал паузу, закурил сигарету, глубоко затянулся и сказал, слегка улыбаясь и выпуская дым: «Результат, так сказать, ничейный». Он поднялся и, прежде чем отец или мать смогли вставить хотя бы слово, по очереди пожал всем нам руку, пообещал поскорее прислать окончательный результат исследований, пожелал счастливого возвращения домой, проводил нас до дверей лаборатории и, как бы в утешение, еще раз крикнул родителям, уже вышедшим на лестничную площадку: «Мы узнаем больше, когда изучим строение головы и тела». На обратном пути родители почти не разговаривали друг с другом, и чем ближе мы подъезжали к дому, тем яснее становилось отцу и матери, что они ни на шаг не продвинулись в своем деле. Незадолго до съезда с автострады на проселочную дорогу, которая вела к дому, с отцом случился припадок бешенства, приведший к тому, что отец почувствовал боль в груди и остановил машину. Вместо него за руль села мать, пытаясь одновременно успокоить отца, который, несмотря на боль в груди, продолжал возмущаться совершенно бесполезной, по его мнению, поездкой в Гейдельберг. «Ничья, — сердито бормотал он про себя, — так сказать, ничейный результат». Пустая трата времени — вот что это такое. Растранжирили и время, и деньги. Он перестал ругаться, только когда мать свернула во двор и резко затормозила, так как там стоял зеленый «фольксваген» господина Рудольфа, местного полицейского. Господин Рудольф сообщил родителям, что прошлой ночью кто-то вломился в холодильник и разграбил его. Украли почти весь запас мяса и колбасы, кроме того, воры выключили систему охлаждения, и все, что им не удалось утащить, уже, возможно, испортилось. Мать в какой-то мере еще сохраняла спокойствие. Завтра же, сказала она, нужно поставить в известность страховую компанию в связи с причиненным ущербом. Зато отец побледнел, схватился за грудь и упал бы, не подхвати его господин Рудольф. Он и мать втащили отца в дом и вызвали врача «скорой помощи», который определил приступ стенокардии, сделал укол и предписал постельный режим. Отец пролежал в постели ровно полтора часа, затем, одетый в купальный халат, появился на кухне, где мать готовила для нас и господина Рудольфа ужин, и признался матери, что находившиеся в холодильнике продукты не были застрахованы. Страховка вступит в силу только с первого числа следующего месяца, он немного отодвинул срок, чтобы сэкономить на страховом взносе. Годами бросал он деньги в пасть всевозможным страховщикам и еще ни разу не воспользовался их услугами. И вот на тебе. Он сел, снова покрылся потом и стал хватать ртом воздух. Мать не придумала ничего другого, как снова позвонить в «скорую». Врач был весьма озабочен состоянием отца и отправил его в больницу. Мать поехала вместе с отцом. Господин Рудольф пообещал ей, что позаботится обо мне и проследит, чтобы я вовремя лег спать. Я обрадовался, что за мной будет присматривать человек в зеленой униформе. Он хоть и полицейский, но значительно приветливее отца. Господин Рудольф беседовал со мной, как со взрослым, а когда я попросил его показать мне, как работает его радиотелефон, он вытащил еще и свой служебный пистолет, который носил в кожаной кобуре на поясе. Отец никогда так со мной не разговаривал, и он ни за что не стал бы мне объяснять, как работает радиотелефон, тем более показывать табельное оружие. И он никогда не стал бы накрывать на стол и ужинать со мной, как это сделал господин Рудольф. Когда мы съели приготовленную мамой яичницу, я расспросил господина Рудольфа о краже в холодильнике. У них пока еще нет улик, но криминальная полиция была утром на месте преступления и зафиксировала следы. Они нашли отпечатки пальцев, правда, это могли быть отпечатки пальцев водителей, или родителей, или даже моих. «Даже моих?» — испугался я и представил себе, что преступник — это я. Я чувствовал себя виноватым, хотя и понимал всю нелепость этого чувства. И все же чей-то голос во мне говорил: «Ты взломал холодильник». Да и каменный мост в Гейдельберге я тоже хотел обрушить. Мост не обрушился. И холодильник я не взламывал. Но я все же надеялся, что отпечатков моих пальцев на двери холодильника нет. Нашли ли они отпечатки ног, поинтересовался я. Насколько ему известно, нет, сказал господин Рудольф. Да он и не думает, что на асфальте можно найти какие-либо отпечатки. Тогда я объяснил ему, что отпечатки ног лучше всего делать с помощью пропитанных гипсом салфеток. По крайней мере, в Гейдельберге поступают именно так. Господин Рудольф слушал меня очень внимательно, и тогда я рассказал ему о стопах на письменном столе лаборантки, об отверстиях от пуль в потолке профессорского кабинета, о шофере катафалка и человеческих косточках, я рассказывал так долго, что чуть не свалился со стула от усталости. Я отправился спать, а на следующее утро узнал, что отец перенес не приступ стенокардии, а два инфаркта и лежит теперь в реанимации. Мать осталась с ним в больнице, она приехала домой, чтобы только приготовить для меня еду. Вечером она, как и накануне, сделала яичницу-болтунью и возвратилась в больницу. Я уже собрался ложиться спать, как пришел господин Рудольф и сказал, что отцу плохо и мы едем в больницу. Я ехал с ним в больницу в полицейской машине и думал, кем мне лучше стать — преступником или полицейским. Господин Рудольф подвел меня к палате, в которой лежал отец. Вошел я туда один. Больной лежал на кровати, весь опутанный проводами и трубками, мать молча сидела рядом. Когда я наклонился к нему, он открыл мутные, желтовато-водянистые глаза, не узнавая меня. В палате было жарко, пахло потом, лекарствами и дезинфицирующими средствами, и не успел я обменяться с матерью словом, как меня стало тошнить, и мне пришлось выйти из палаты. Мать позвала медицинскую сестру, и та дала мне выпить какой-то горькой жидкости. Господин Рудольф отвез меня домой. Он высадил меня у входа в дом и снова уехал в больницу. Я отправился спать один. Около двух часов ночи меня разбудил господин Рудольф. Лицо у него было серьезное и бледное, он сказал, что отец скончался. Затем он положил на ночной столик Библию, сказал, что мне надо ее читать, а сам вернулся в больницу, чтобы позаботиться о матери. Я взял Библию в руки, она была тяжелой, как камень. Я взял ее не только ради господина Рудольфа, но и ради отца. Это был первый и единственный раз, когда я добровольно, никем не подгоняемый, взял в руки Библию. Но Библия — толстая книга, в ней сотни страниц, и я не знал, где нужно начинать, а где кончить. Мне хотелось быть хорошим сыном, и я не решился отложить Библию в сторону. Я открыл ее на странице, озаглавленной: «Где что искать?» Я поискал слово