Блондин обеего цвета. Взаимная повесть. [Сюрреалистический рассказ] - [2]
Вот уж поистине, как мало мы их знаем, держа за собой… Сама же она, нервная и болезненная, занятая лишь своей персоной, непрерывно изображающая Лолиту («эдакую Лолиточку», как сама признавалась) — вряд ли это удачно к тридцати-то шести годам… Какую-то роль сыграли несогласия «во время нежной постели» (опять цитата, но ведь хорошо же сказано!) — то есть во время тех взаимно сложных действий, какие св. Франциск Сальский считал «долгом, уклоняться от которого можно лишь по взаимному соглашению» — прекрасна лексика святых, не говоря уже о смысле! Правда, теперь, к сожалению, знаю, почему она так упорно и односторонне уклонялась: редкая женщина выдержит год (а тем более дольше) непрестанную двойную атаку… но вообще, признаюсь честно, это единственное, что мог бы ей вполне простить, и сам ведь грешен… нас легко оторвать и бросить, но забыть нас не удается… это песня, всего лишь песня… прощай, моя любимая, больше не свидимся… а талантлива была очень, но, оторванная с детства от всех основ… однако теперь, когда ее нет, не испытываю к ней ничего, кроме безграничной нежности.
А роман о Долли Гейз действительно появился в нашей истории куда как некстати — ну что бы великому американскому россиянину написать его на десяток лет позже! Ибо романы никогда никого ничему не научивают, зато сообщают аналогиям отвратительную догадку: будто мы живем по заранее уготованной прописи, да к тому ж то и дело оскользаем с нее, словно осваивая начальное образование; получается сплошное безобразие клякс и потеков, ни одной человеческой фигуры… Нет, это совершенно точно: наша история всего лишь карикатура лолито-гумбертовской драмы. Даже убийство театрального деятеля является здесь — и тоже редуцированное до пары затрещин, повергнувших, правда, нашего героя в состояние непрерывного страха, от которого он поседел в один год настолько, что уже перестал быть объявленным в его названии блондином (название я сохраню, тем не менее). Серьезная разница лишь в ребенке; ребенка я более всего и любил, за него по-настоящему страдал — но что мне было делать тогда? и потом? и что мне делать сейчас? возможно, я даже не отклоню его сумасшедшее предложение: на что мы только ни идем ради того, что назовем столь великолепно искусством… Все остальное более чем смехотворно. Ведь до чего у нас дошло — он предложил мне две тысячи отступного безумной телеграммой (кажется, даже помню: «унять пошатнувшееся творчество зпт уход любимой женщины поддержки зпт отчасти виноват но пожмем руку счастья…»). Надо бы обидеться, да? Швырнуть перевод ему в морду? Удивляйтесь, разводите руками, но я аккуратно превратил эту подлую бумажку с помощью почты в полновесные рыжие десятки, жалея лишь об одном: а почему только две? не четыре? пять? семь? Да, я принял эти, в сущности, не слишком большие рубли у человека, которого хорошо окупает государство, и это дало мне возможность написать две картины что с великим трудом миновали границу и висят сейчас у Гугенхайма; картины, надо сказать, из моих лучших.
Несколько комментариев для тех, кто живет по ту сторону занавеса — то есть в зрительном зале нашего замечательно железного мирового театра, как сказал один не лишенный способностей писатель[2], в котором я особенно ценю острый юмор, у других любя его мало: у него есть новая система юмора, и последний являет себя инструментом познания, где познающий субъект включен в познаваемое целое, у большинства же юмор служит лишь для того, чтобы автору поставить себя над проблемой. Впрочем, и этот писатель, в конце концов, барахло, и он касается лишь частностей, и он закопан по колени в наши общие экскременты (да еще, говорят, запил горькую), и вообще только живопись может объяснить этот мир… но если б когда-нибудь я озаботился изданием этой грустной истории, я просил бы именно его, никого другого, привести ее к правилам современной журналистики.
Так вот, обещанный комментарий. Этот странный, вывернутый язык, это разложение сознания, заметьте, в принципе интеллигентного, но которое уже не способно управляться при помощи логики, которое с упорством возвращается к двум-трем темам, к двум-трем мыслям, на которых стоит удивительно прочно: что это? Бред больной головы? Изыск стиля? Разговаривают ли у нас нынче именно так?.. Разумеется, это литературное произведение — не в смысле предназначенности для наших толстых журналов, но в смысле выраженности того, что происходит внутри этого человека (иванов? антонов? гречко? — все время забываю и все время кажутся принадлежащими ему одновременно все эти фамилии). С этой точки зрения здесь есть простота, даже предельная обнаженность. Мы, в своих грамматических фразах, куда как хуже умеем себя выражать. При общем безумии содержимого этой головы, нельзя не восхититься краткостью, достиганием сути всего в три какие-то слова, а то и меньше: «эпитафия могилы» — разве ж не ясно? разве надобно это удлинять — эпитафия, списанная мною (а ведь тут явно слышится личное участие) со старой могилы? Бессознательные его проговорки почти всегда полны содержания: «обеего цвета,» например — этот неловко мелькнувший женской род, как мелькнувший подол возле дачи партийного вершителя, куда случайную гостью не пустят, затопчут, а значит, выдает образ жизни хозяина, к которому крадучись она пробирается, какая-нибудь сельская учительница пригородной школы — этот женский род сразу выдал в названии (он потом и не скрывает) некоторую двойственность персонажа, а верней, неоднозначность, то есть, я думаю, ясно (обеего — обоего — ведь не цвета же, пола). А чего стоят иные афоризмы! «Человек — это звучит горько…» Да если б мне не знать его столь хорошо, я предположил бы тут незаурядный ум, который так глубоко и так кратко заменил горьковское «гордо» (самонадеянное и человекобожеское), отразив к тому же мгновенно саму историю вопроса. И заметьте: он абсолютно серьезен, даже трагичен, он старается предельно открыть себя — но ведь он не смеется, не смешит, не паясничает перед нами, и хотя нам порою смешно, за этим смехом открывается запустение и мерзость панического страха, знакомого каждому соотечественнику, страха недвусмысленно погибнуть под звуки «безостановочного праздника веселое детство» — о, как явственно слышен он всегда и каждому, нашему герою тоже, «этот лучший госстрах, полный ужаса нашей эпохи» (цитаты).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
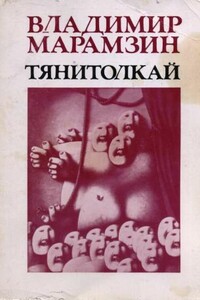
«Тянитолкай» – остроумный рассказ, написанный в 1966 году и посвященный фантастическим отношениям писателей и КГБ. В уста чекистов из Большого дома на Литейном, 4, автор вложил высказывания диссидентов: «Взгляните только на редакторов: ни одного приличного человека! Если не подлец, так дурак, а если не дурак – то негодяй», – сказал мой сосед с неожиданной страстью. «А иначе и не удержится!» – добавила девушка. Я с удивлением переводил глаза с одного сотрудника на другого. Право, можно было подумать, что я нахожусь посреди самых крайних, самых прогрессивных из моих знакомых.

В романе Б. Юхананова «Моментальные записки сентиментального солдатика» за, казалось бы, знакомой формой дневника скрывается особая жанровая игра, суть которой в скрупулезной фиксации каждой секунды бытия. Этой игрой увлечен герой — Никита Ильин — с первого до последнего дня своей службы в армии он записывает все происходящее с ним. Никита ничего не придумывает, он подсматривает, подглядывает, подслушивает за сослуживцами. В своих записках герой с беспощадной откровенностью повествует об армейских буднях — здесь его романтическая душа сталкивается со всеми перипетиями солдатской жизни, встречается с трагическими потерями и переживает опыт самопознания.
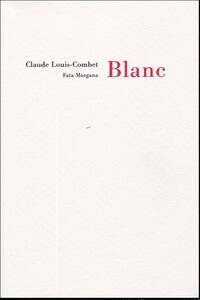
Повесть «Пробел» (один из самых абстрактных, «белых» текстов Клода Луи-Комбе), по словам самого писателя, была во многом инспирирована чтением «Откровенных рассказов странника духовному своему отцу», повлекшим его определенный отход от языческих мифологем в сторону христианских, от гибельной для своего сына фигуры Magna Mater к странному симбиозу андрогинных упований и христианской веры. Белизна в «онтологическом триллере» «Пробел» (1980) оказывается отнюдь не бесцветным просветом в бытии, а рифмующимся с белизной неисписанной страницы пробелом, тем Событием par excellence, каковым становится лепра белизны, беспросветное, кромешное обесцвечивание, растворение самой структуры, самой фактуры бытия, расслоение амальгамы плоти и духа, единственно способное стать подложкой, ложем для зачатия нового тела: Текста, в свою очередь пытающегося связать без зазора, каковой неминуемо оборачивается зиянием, слово и существование, жизнь и письмо.
![В долине смертной тени [Эпидемия]](/storage/book-covers/20/20b59336dc28de47dc7a206b6ad9ee6ea45788bb.jpg)
В 2020 году человечество накрыл новый смертоносный вирус. Он повлиял на жизнь едва ли не всех стран на планете, решительно и нагло вторгся в судьбы миллиардов людей, нарушив их привычное существование, а некоторых заставил пережить самый настоящий страх смерти. Многим в этой ситуации пришлось задуматься над фундаментальными принципами, по которым они жили до сих пор. Не все из них прошли проверку этим испытанием, кого-то из людей обстоятельства заставили переосмыслить все то, что еще недавно казалось для них абсолютно незыблемым.
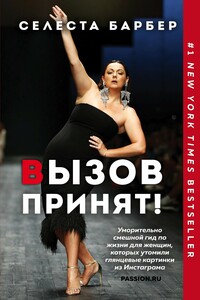
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
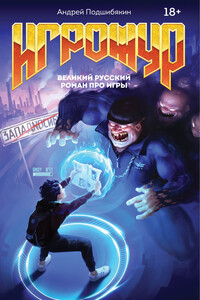
Журналист, креативный директор сервиса Xsolla и бывший автор Game.EXE и «Афиши» Андрей Подшибякин и его вторая книга «Игрожур. Великий русский роман про игры» – прямое продолжение первых глав истории, изначально публиковавшихся в «ЖЖ» и в российском PC Gamer, где он был главным редактором. Главный герой «Игрожура» – старшеклассник Юра Черепанов, который переезжает из сибирского городка в Москву, чтобы работать в своём любимом журнале «Мания страны навигаторов». Постепенно герой знакомится с реалиями редакции и понимает, что в издании всё устроено совсем не так, как ему казалось. Содержит нецензурную брань.

Острое социальное зрение отличает повести ивановского прозаика Владимира Мазурина. Они посвящены жизни сегодняшнего села. В повести «Ниночка», например, добрые работящие родители вдруг с горечью понимают, что у них выросла дочь, которая ищет только легких благ и ни во что не ставит труд, порядочность, честность… Автор утверждает, что что героиня далеко не исключение, она в какой-то мере следствие того нравственного перекоса, к которому привели социально-экономические неустройства в жизни села. О самом страшном зле — пьянстве — повесть «Дурные деньги».
![Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/storage/book-covers/55/55f507dfe27c0bca27e0cac163f470330d0578e8.jpg)