Благотворительные обеды - [15]
— Мы слушали такую мессу, за которую необходимо отблагодарить, — сказала одна из Лилий, но, возможно, они сказали это хором, потому что упрек прозвучал так громко, что перекрыл шум дождя. — Такую мессу не часто услышишь.
Никто не знал, которая из Лилий самая старая. Хотя все три отличались маленьким ростом, все-таки две были чуть повыше и похожи друг на друга, а третья казалась их куклой. С годами они приобрели одинаковые привычки и жесты; они и делали все как будто одновременно, сами того не желая, и то, что говорила одна, две другие уже успевали подумать, так что любую затею, начатую одной, подхватывала другая и совершенно автоматически позволяла третьей ее закончить, словно делясь чем-то жизненно важным. Мачадо сказал однажды, что Лилии умрут в один день от одного и того же недуга, да и воскреснут, скорее всего, одновременно. Альмиде шутка не понравилась, он ответил, что в воскрешении не будет ни первых, ни последних. Сказал, что чудо воскрешения свершится одновременно, после чего перевел разговор на другую тему. Он никогда не позволял шутить над Лилиями. За что-то он испытывает к ним почтение, подумал Танкредо, не только за стряпню. Или страх? Иногда казалось, что Альмида их избегает, словно в безотчетной панике, в каком-то дурном предчувствии.
— Что касается угощения, — сказала другая старуха, — решали не мы. Лично сам Хуан Пабло Альмида перед отъездом рекомендовал нам после мессы угостить падре…
— Ну так накрывайте на стол и покончим с этим, — сказала Сабина. — Мы не можем терять столько времени.
Танкредо покосился на дверь. Каждое слово Сабины, ее бестактность раздражали его все сильнее. Если Лилии все знают, зачем их дразнить! И тут же одна из них сказала:
— Терять время, сеньорита? Отведенное на что?
Загнанная в угол, Сабина взорвалась:
— Довольно, — крикнула она. — Терпеть не могу ваши шушуканья, ваши пошлости. Мне опротивели загадки, домыслы и обманы, но еще больше опротивело слушать вас, ваши голоса, чувствовать, что вы вечно тут как тут, шпионите за спиной. Если хотите что-то сказать, говорите прямо, без обиняков.
— Что с вами, сеньорита? Я вас не понимаю, — миролюбиво возразила одна из Лилий. — Что мы должны вам сказать? Что вы хотите услышать?
И другая:
— Вы теперь не та Сабина, которую мы знали. Последнее время вы ведете себя грубо. Вы не похожи на крестницу дьякона. Такое впечатление, что вы и Библию не читали. Это нас огорчает, всех троих, ведь мы знали вас еще ребенком, мы были вам матерями, бабушками и подругами, прислуживали вам.
Сабина стучала носком туфли по полу, натянутая, как струна — сжатые кулаки, стиснутые губы. В свете единственной лампочки она казалась не просто позолоченной, но объятой пламенем своих волос, вместо искаженного лица — огненная луна. От злости она не могла произнести ни слова. Танкредо поспешил вмешаться:
— Накрывайте на стол, — повторил он. — Я иду запирать церковь.
— Церковь! — всполошились Лилии. — Церковь Божья не заперта, Господи! Как же вы забыли запереть дверь, Танкредито? В любой момент может забраться вор и…
— Обокрасть Бога? — послышался голос Матамороса.
Он заглядывал в комнату.
— Вы решили оставить меня одного? — спросил он. — Меня тоже могут украсть. Давайте посидим спокойно, и я пойду. Дождь проходит. Ну же… Танкредито… заприте дверь. А мы вас подождем.
Лилии бросились к падре.
— Угощение готово, — объясняли они. — Нужно только его разогреть.
— Пойдемте со мной, — ответил Матаморос, позволяя им окружить себя со всех сторон. Подошла и Сабина — она хотела, должна была что-то сказать, какое-то последнее слово, но не знала какое.
Танкредо поспешно вернулся в церковь. Прошел через опустевший храм. По дороге он проверил, не задержался ли кто-нибудь в нефах. Заглянул даже в капеллу Святой Гертруды, и ее голубоватый лик, глаза, словно плывущие в реке, приковали к себе его взгляд, он перекрестился, хотел прочесть молитву, но не придумал какую, и задумчиво пошел дальше; он вспомнил резкий запах водки в алтаре, в который до сих пор не мог поверить; казалось, он погружен в молитву, но на самом деле он думал об инквизиции, ведь за один такой проступок Матамороса могли бы сжечь живьем. Танкредо представил себе падре на костре, в этой самой церкви, и не удержался от улыбки: пожалуйста, прежде чем запалить костер, налейте мне еще рюмочку. Танкредо заглядывал в каждую исповедальню и, все еще улыбаясь, проверял, не прячется ли там вор. Ничего удивительного. Кражи в церквях множились что ни день, крали не только самые священные ценности, такие, как потир и картины, но даже простые гипсовые статуи, большие и маленькие свечи, куски гваякового дерева, кадила; случалось, воры уносили подставки для колен или скамейки, куски ковра, даже каменную емкость для святой воды, ободранную доску объявлений, висевшую у входа в церковь, мусорную урну, а однажды — и это было уже чересчур — оторвали две первые узенькие, отполированные ступеньки винтовой лестницы, украшенной резьбой с изображением этапов Крестного пути. И, сколько ни осуждал в своих проповедях достопочтенный Альмида вора, требуя вернуть Богу Богово, сколько ни объяснял, что эту лестницу подарила их церкви одна религиозная флорентийская организация и что сам Папа Павел VI благословил подарок, ступеньки так и не вернули, мало того, через три воскресенья пропали третья и четвертая, и это уже было похоже не на вора, а на какого-нибудь шутника или собирателя папских реликвий. Какого-нибудь заядлого коллекционера. Что поделаешь: Богота. Падре Альмида распорядился спрятать остатки лестницы и заменить ее простой, построенной из скверного, зараженного древоточцем дерева.
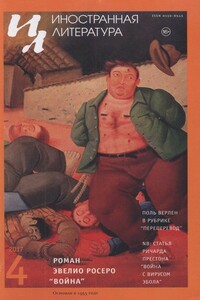
За считанные месяцы, что длится время действия романа, заштатный колумбийский городок Сан-Хосе практически вымирает, угодив в жернова междоусобицы партизан, боевиков наркомафии, правительственных войск и проч. У главного героя — старого учителя, в этой сумятице без вести пропала жена, и он ждет ее до последнего на семейном пепелище, переступив ту грань отчаяния, за которой начинается безразличие…

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
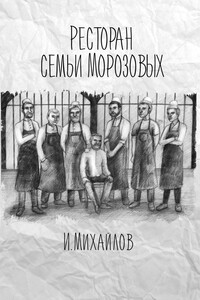
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.

Далее — очередной выпуск рубрики «Год Шекспира».Рубрике задает тон трогательное и торжественное «Письмо Шекспиру» английской писательницы Хилари Мантел в переводе Тамары Казавчинской. Затем — новый перевод «Венеры и Адониса». Свою русскоязычную версию знаменитой поэмы предлагает вниманию читателей поэт Виктор Куллэ (1962). А филолог и прозаик Александр Жолковский (1937) пробует подобрать ключи к «Гамлету». Здесь же — интервью с английским актером, режиссером и театральным деятелем Кеннетом Браной (1960), известным постановкой «Гамлета» и многих других шекспировских пьес.

В рубрике «Документальная проза» — газетные заметки (1961–1984) колумбийца и Нобелевского лауреата (1982) Габриэля Гарсиа Маркеса (1927–2014) в переводе с испанского Александра Богдановского. Тема этих заметок по большей части — литература: трудности писательского житья, непостижимая кухня Нобелевской премии, коварство интервьюеров…

Избранные миниатюры бельгийского писателя и натуралиста Жан-Пьера Отта (1949) «Любовь в саду». Вот как подыскивает определения для этого рода словесности переводчица с французского Марии Липко в своем кратком вступлении: «Занимательная энтомология для взрослых? Упражнения в стиле на тему эротики в мире мелкой садовой живности? Или даже — камасутра под лупой?».

Следующая большая проза — повесть американца Ричарда Форда (1944) «Прочие умершие» в переводе Александра Авербуха. Герой под семьдесят, в меру черствый из соображений эмоционального самосохранения, все-таки навещает смертельно больного товарища молодости. Морали у повести, как и у воссозданной в ней жизненной ситуации, нет и, скорей всего, быть не может.