Безымянная могила - [12]
Когда Каиафу сняли, новый прокуратор, Вителлий, с новым первосвященником, Ионафаном, пришли к выводу, что Иуда действительно невиновен и, если он даст клятву не бунтовать, можно его выпустить на свободу. Дидим сказал: именно тогда он сменил имя и стал Ананией. Вителлий с ним не встречался, Ионафан же беседовал несколько раз. Из Иерусалима Иуда перебрался в Дамаск, там никто его не знал: Анания так Анания. И в таком случае правда, что это он обратил в веру Савла и нарек его Павлом; того самого Савла, который по письменному поручению Синедриона преследовал братьев-христиан. Потом, во времена императора Калигулы, Иуда вернулся из Дамаска в Иерусалим и устроился на службу в Синедрион. А после смуты его, при неясных обстоятельствах, избрали первосвященником, и он добился от римлян, чтобы с этих пор у них было лишь право утверждать первосвященников, выбор же их вновь становился прерогативой царя Иудейского. В годы правления императора Нерона, при прокураторе Феликсе, Ананию неожиданно вынудили отказаться от своего поста; прокуратор Фест выдал ему охранную грамоту, однако первосвященник Анна приказал держать его под домашним арестом. И он был не убит, а покончил с собой. А Павел, бывший Савл, так ни о чем и не узнал…
Лука отошел от окна; лицо его было бледным и потным. Вот, стало быть, версия вторая, произнес он вслух, это Дидим, брат Фомы, писарь в Синедрионе, рассказал ему на берегу Мертвого моря, недалеко от Вифании… Каждый раз, воспроизводя в памяти тот разговор, Лука чувствовал, что бледнеет. Он сел на скамеечку, сгорбился, подперев лоб кулаками. Возможен ведь и третий вариант, напрягал мозг Лука. Иисус в самом деле воскрес, но Синедрион стал, и не без успеха, распространять слух, будто тело его похищено из склепа. И похитителем был якобы Иуда, предатель, который за деньги способен на все. Выход из этого безвыходного положения Иуда и попытался найти, наложив на себя руки, но умереть ему не дали, несколько лет держали под стражей, обрабатывали, пока не добились своего: Иуда согласился под чужим именем вести слежку за последователями Христа. За это он получил обещание, что, как только представится удобный случай, в награду за услуги его возведут в ранг непогрешимого. И — после того как был схвачен Стефан, а потом апостол Иаков — такой случай представился.
Лука вздохнул, покивал с напряженным лицом; да, это единственное логичное объяснение, пробормотал он негромко. Единственное, которое похоже на правду. Ведь если верить Дидиму, то почему тогда был устроен суд над Павлом? Если бы Савла в Дамаске обратил в веру Христову Анания, прежде Иуда, то он не мог бы стать главным обвинителем против Павла в иерусалимском процессе, не приказал бы бить его по устам. Да и Павел наверняка разоблачил бы его, двадцать лет — не такой уж большой срок, он бы его запомнил, если бы в самом деле Анания уговорил его не преследовать братьев. Павел в присутствии прокуратора обратился с апелляцией к императору, его увезли в Рим, там позволили снять жилье, обвинение со временем устарело, он стал свободным. Анания же впал в немилость. Да, повторял Лука, это единственная логичная версия. Значит, Иуда действительно не умер, а стал Ананией. Но ведь Иисус воскрес, значит, это неправда, будто Иуда похитил тело и похоронил его; если бы дело обстояло так, он признался бы в этом под пытками… Лука опять подошел к окну, и тут ему вспомнилось: Дидим сказал, что ждал вести о смерти Павла, Анания поставил условие, чтобы Дидим открылся ему, Луке, лишь после кончины Павла.
Зачем надо было ждать этого, задумался Лука, ведь Дидим утверждал, что Павел не знал ничего… День за окнами стал тускнеть, мальчишки уже перестали драться, теперь они кидали в цель камни. В пыли стоял на коленях верблюд, подняв вверх морду. Зачем Дидиму нужно было дожидаться смерти Павла? Да затем, чтобы нельзя было спросить у него: так ли все случилось, как Анания рассказал Дидиму?
Лука вдруг рассмеялся: ну конечно, вот где собака зарыта! Анания мог говорить Дидиму что угодно: Павел умер, опровергнуть его он уже не в состоянии. Вот почему надо было дождаться его смерти. Да, повторил Лука, расхаживая по комнате взад и вперед, все-таки третий вариант самый правдоподобный. Будь Павел жив, он бы наверняка заявил, что все это, от первого до последнего слова, ложь и вовсе не Анания обратил его в Дамаске в веру Христову! Да, третий вариант, третий — истинный. На душе у него стало куда спокойнее. Он взял кувшин, отпил воды из него; на бороде заблестели капли. Бросив взгляд на окно, он подумал, что пора, пожалуй, идти: через посредника он передал Иосифу Аримафейскому, что зайдет к нему сегодня до захода солнца; зайдет ненадолго, только задаст несколько вопросов. Сейчас он жалел, что связался с Иосифом, а ведь сколько усилий стоило найти, где он живет… Да, верное решение найдено: этот, третий вариант, самый логичный.
Ладно, все равно, раз договорился, значит, надо сходить, подумал он. И снова в душе зашевелились сомнения, снова ожили вопросы, мучившие его после встречи с Дидимом. Собирая сведения об Иосифе Аримафейском, он узнал, что тот все еще член Синедриона, хотя, из-за возраста, скорее почетный член; ему стукнуло семьдесят пять, прямо Мафусаил, подагра его терзает, и с мочевым пузырем беда, мочу не держит. Сначала это почему-то показалось Луке еще одним доводом в пользу того, что третий вариант — настоящий. Хотя… как все-таки вышло, что после того, как Иосиф Аримафейский отпросил у Пилата тело Иисуса и положил его в своем склепе, он все-таки остался в Синедрионе? И ничего в его жизни с тех пор не изменилось, кроме того, конечно, что он состарился, и теперь за ним надо ходить как за малым ребенком. И если склеп все еще принадлежит ему, то он ведь должен знать, что туда погребли Ананию; и должен знать почему… Или, может, он продал склеп — после того как Иисус, похороненный в нем, воскрес? Но если продал, то почему? Потому, что верил в Иисуса, или, наоборот, потому, что не верил? И новый вопрос: если он действительно был последователем Иисуса, то почему остался членом Синедриона?

В книгу вошли пять повестей наиболее значительных представителей новой венгерской прозы — поколения, сделавшего своим творческим кредо предельную откровенность в разговоре о самых острых проблемах современности и истории, нравственности и любви.В повестях «Библия» П. Надаша и «Фанчико и Пинта» П. Эстерхази сквозь призму детского восприятия раскрывается правда о периоде культа личности в Венгрии. В произведениях Й. Балажа («Захоронь») и С. Эрдёга («Упокоение Лазара») речь идет о людях «обыденной» судьбы, которые, сталкиваясь с несправедливостью, встают на защиту человеческого достоинства.
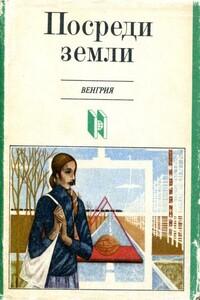
В сборник входят наиболее значительные рассказы венгерских писателей семидесятых годов (Й. Балажа, И. Болдижара. А. Йокаи, К. Сакони и др.). разнообразные по своей тематике. В центре внимания авторов рассказов — события времен второй мировой войны, актуальные темы жизни сегодняшней Венгрии, моральная проблематика.Все рассказы на русском языке публикуются впервые.
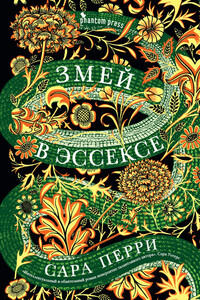
Конец XIX века, научно-технический прогресс набирает темпы, вовсю идут дебаты по медицинским вопросам. Эмансипированная вдова Кора Сиборн после смерти мужа решает покинуть Лондон и перебраться в уютную деревушку в графстве Эссекс, где местным викарием служит Уилл Рэнсом. Уже который день деревня взбудоражена слухами о мифическом змее, что объявился в окрестных болотах и питается человеческой плотью. Кора, увлеченная натуралистка и энтузиастка научного знания, не верит ни в каких сказочных драконов и решает отыскать причину странных россказней.

Когда-то своим актерским талантом и красотой Вивьен покорила Голливуд. В лице очаровательного Джио Моретти она обрела любовь, после чего пара переехала в старинное родовое поместье. Сказка, о которой мечтает каждая женщина, стала явью. Но те дни канули в прошлое, блеск славы потускнел, а пламя любви угасло… Страшное событие, произошедшее в замке, разрушило счастье Вивьен. Теперь она живет в одиночестве в старинном особняке Барбароссы, храня его секреты. Но в жизни героини появляется молодая горничная Люси.
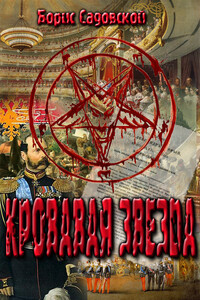
Генезис «интеллигентской» русофобии Б. Садовской попытался раскрыть в обращенной к эпохе императора Николая I повести «Кровавая звезда», масштабной по содержанию и поставленным вопросам. Повесть эту можно воспринимать в качестве своеобразного пролога к «Шестому часу»; впрочем, она, может быть, и написана как раз с этой целью. Кровавая звезда здесь — «темно-красный пятиугольник» (который после 1917 года большевики сделают своей государственной эмблемой), символ масонских кругов, по сути своей — такова концепция автора — антирусских, антиправославных, антимонархических. В «Кровавой звезде» рассказывается, как идеологам русофобии (иностранцам! — такой акцент важен для автора) удалось вовлечь в свои сети цесаревича Александра, будущего императора-освободителя Александра II.
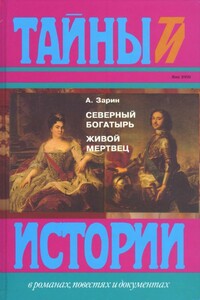
Андрей Ефимович Зарин (1862–1929) известен российскому читателю своими историческими произведениями. В сборник включены два романа писателя: «Северный богатырь» — о событиях, происходивших в 1702 г. во время русско-шведской войны, и «Живой мертвец» — посвященный времени царствования императора Павла I. Они воссоздают жизнь России XVIII века.
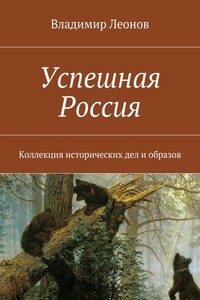
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».
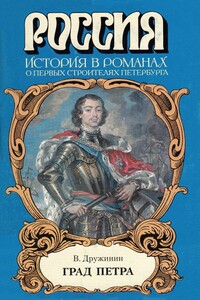
«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.