Без заката - [10]
Сквозь этот курьерский проходила Вера в зиму. С влажным буйством кружились в Таврическом листья, сухие сучья наводили тонкий узор на бесцветное, бледное небо. Теплый поток гольфштремного воздуха стынет, сыплется с шуб жирный нафталин, раскатывается потертый ковер. Пылает, стреляет искрами печка. И однажды, когда Вера возвращается из школы, она видит: в доме напротив моют окна, смывая с них мел и нарисованные Самом еще весной рожи; там снимают с окуклившейся люстры чехол. И через два дня Сам звонит у двери: как он худ, как дурно загорел, как невероятно резко и болезненно вырос!
Мимо громадных, как будки, старых шкапов, отправляются они в тесную Верину комнату, где, как и во всей квартире, пахнет слегка кухней и табаком, — и с этим ничего не поделаешь.
— Дедушка еще жив? — спрашивает Сам и садится к столу, заклеенному клякс-папиром, а она — на табуретку у окна, быстро окинув взглядом комнату: все ли в порядке? — постель под пикейным одеялом, умывальник с педалью, два портрета на стене: Пушкина и бабушки.
— Как хорошо, что ты вернулся! — говорит она. — Как хорошо, что осень. Пушкин тоже любил осень.
Он кладет локти на стол, глаза его делаются узкими и темнеют.
— Я буду держать экзамен в консерваторию, — говорит он. Экстерном. А Полина чуть замуж не вышла.
Вера всплескивает руками. В Самином напряженном и непохожем на правду рассказе Вера видит далекий берег, белые камни, пальмы в три обхвата, длинную красную лодку и шумное гнездо кричащих чаек в скале; Вера слышит ночную музыку в тесных переулках, вьющихся между мраморных отелей и дальше, тишину, где кончаются бедные, грязные, плоские, как тюремные стены, дома и начинается холмистая итальянская земля, все выше, все круче, все прохладнее: вот за тем поворотом необходимо запахнуться, а за следующим — повязать на шею шарф. Навстречу спускается осел, острыми копытцами нащупывая крутой щебень. Серебрятся оливковые рощи по обеим сторонам дороги, и вот льется золотое-золотое — девяносто шестой пробы, честное слово солдата! — золотое вино в толстые стаканы. И кипарисы недвижны на высокой горе, где, помнишь, Гектор Сервадак откололся с куском земли и полетел в пространство, у Жюля Верна.
Сам переставил ее вещи на стол, сломал тонко очинённый карандаш, поковырял будильник. Потом положил рыжую голову на стол, на Верины тетрадки, и вдруг заснул. Это бывало с ним. Господи, чего только с ним не бывало!
VI
Под Новый год, вечером, Вера осталась одна: отец и мать уехали в гости, оставив спальню в невообразимом беспорядке: поперек кровати было брошено раскинувшее рукава старенькое материнское платье, поверх него в каком-то безобразном полете — отцовская куртка. Высокие, до последнего дня своей жизни нестоптанные, материнские сапожки валялись посреди комнаты, на них наступали — опять в том же азарте — отцовские сапоги; все ящики туалета были выдвинуты (она искала веер). Еще в передней продолжала она натягивать длинные лайковые перчатки, потом набросила на высокую прическу оренбургский тонкий, как кружево, платок, на плечи — поношенную, но все еще нарядную лисью ротонду и выбежала, все продолжая натягивать перчатки; отец заспешил за ней в новенькой фуражке, наставив барашковый воротник.
На той стороне улицы были гости.
Вера угадывала за тюлем Адлеровских окон Полину, черноватого гостя с бородкой и многих других, кого успела узнать у Адлеров. Среди гостей она иногда видела маленькую быструю тень Сама. У подъезда стояла вереница саней и несколько карет. Кучера наверное ничего не слышали из того, что делалось наверху: ни рояля, ни голосов. Но Вера слышала: звуки неслись сверху: там, в квартире доктора Бормана («не надейся, даже не родственник Жоржу»), шаркали, бегали грохотали, тренькали, восклицали, пели — словом, встречали теплой компанией Новый год. И не зачем было смотреть на часы или слушать — не пробьет ли в столовой двенадцать? — и без того было ясно: сперва опустели окна напротив — адлеровские гости перешли в столовую (сорок приборов, шесть лакеев, взятых напрокат); потом у Борманов что-то куда-то передвинулось; внезапно наступила минута тишины. Мигали фонари на улице, блестели звезды. И потом сразу грянуло наверху — поехали стулья. А-а-а — заревела разом дюжина голосов.
А дедушка лежал рядом и готовился умирать.
Умирал он уже месяца полтора — и жизнь вокруг текла своим порядком, нельзя было ее остановить, да и зачем? Но сейчас он умирал всерьез. Прежде, чем лечь, Вера послушала у его двери.
— Егоза, голубушка, — услышала она его шепот, и сейчас же вошла, потому что это он так ее звал.
— Егоза, голубушка, — больше ничего разобрать было нельзя.
Ей показалось, что он просит пить. Она поднесла ему стакан. Потом ей показалось, что он просит поднять повыше ноги.
А наверху все шумели заиграли польку, пошли в пляс. Хорошо, что дедушка был глух.
Он, медленно охая, пополз рукой в ее сторону.
— Заливает, — разобрала она. За ее спиной горела лампа, укрытая газетным листом. В комнате был старый и острый запах — лекарств, какой-то травы (которая почему-то хранилась в ночном шкапике), меховой дедушкиной шапки, которую он иногда надевал, лежа в постели. Веру начинало клонить ко сну. Она отсчитала двадцать капель из бутылки с шлейфообразным рецептом, и осторожно влила дедушке в рот. Он удивленно взглянул на нее, словно давно не видел.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
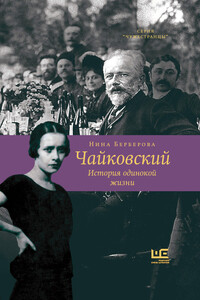
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…
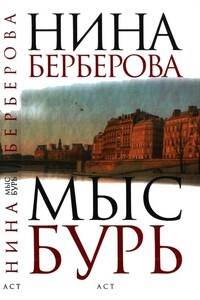
Героини романа Нины Берберовой «Мыс Бурь» — три сестры, девочками вывезенные из России во Францию. Старшая, Даша, добра ко всем и живет в гармонии с миром; средняя, Соня, умна и язвительна, она уверена: гармонии нет и быть не может, а красота давно никому не нужна; младшая, Зай, просто проживает веселую молодость… Вдали от родины, без семейных традиций, без веры, они пытаются устроить свою жизнь в Париже накануне Второй мировой войны.В книгу также вошло эссе «Набоков и его „Лолита“», опубликованное «по горячим следам», почти сразу после издания скандального романа.

Нина Берберова, автор знаменитой автобиографии «Курсив мой», летописец жизни русской эмиграции, и в прозе верна этой теме. Герои этой книги — а чаще героини — оказались в чужой стране как песчинки, влекомые ураганом. И бессловесная аккомпаниаторша известной певицы, и дочь петербургского чиновника, и недавняя гимназистка, и когда-то благополучная жена, а ныне вышивальщица «за 90 сантимов за час», — все они пытаются выстроить дом на бездомье…Рассказы написаны в 30-е — 50-е годы ХХ века.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)