Без музыки - [110]
Гущин с интересом разглядывает его:
— Ну вот, еще один ненормальный.
— Мне кто-то рассказывал, — бородатый Алик вглядывается в темный коридор, — будто у мусульман существует традиция. На похоронах, на исходе последних минут, все садятся вокруг могилы и старейший спрашивает: «Каким был этот человек?»
— И каждый по очереди превозносит его достоинства, — грустно перебивает Гущин. — Здесь все так же, Алик. Просто экономят время и не задают вопросов. И потом, жизнь продолжается. Зачем портить настроение живущим?
Алик качает своей кудлатой головой:
— Ты помнишь его первую повесть?
— Естественно, — Гущин сует руки в карманы брюк. Максим только сейчас замечает, как он сутул. — Второй же не было.
— Прелесть, как хорошо написано. Представляешь, напиши человек еще пять таких повестей, и…
Максим неожиданно хватает Алика за руку:
— Хватит, перестань. Он был прекрасным человеком.
Алик удивленно смотрит на Максима, потом на Гущина, снова на Максима.
— Да, да, вы правы… добрым и талантливым.
— Не в этом суть. Он был!
Ночью выпал первый снег. Ему не спалось. Максим сел к столу и стал писать. Рассвет пробивался сквозь тяжелый туман. Сырой, комковатый воздух затягивало в форточку. Воздух был похож на пар, словно на подоконнике стоял большой человек и дышал в холодную комнату.
Утром на мостовой от снега осталась черная слякоть, и только на подоконнике лежали белые бусины льда, напоминавшие изморозь.
Теперь он все чаще писал ночью. Писал по-иному, не перечитывая написанного. Там, на даче, в лесу, среди тягостных дум о главном, первоочередном, ему почудилось, что он написал о себе. Тогда он еще засмеялся над собой, над нелепой, сумасшедшей мыслью. Он поднялся и торопливо пошел назад. Его настиг дождь. Он выбрал мрачную ель, присел на корточки и стал слушать шелест дождя. Было покойно и, может, оттого так отчетливо увиделась уже написанной эта странная вещь. Прямо поперек папки были нарисованы тяжелые черные буквы. Они никак не складывались в слово. Наконец, он разобрал его: «Исповедь». Дождь сыпал и сыпал. Максим уснул.
Чай пили прямо на кухне. Нина резала сыр, когда Максим сказал в сторону:
— Храмов умер…
— Храмов? — Нина надкусила желтоватый ломтик. — Артист?
— Нет, газетчик. Помнишь кафе «Павлин»? Он подсел к нашему столику.
— А, похож на Степана Разина.
Максим не удивился сравнению. В Храмове и в самом деле уживалось что-то бесшабашное, лихое.
— Возможно. Так вот он умер.
— Спился, наверное.
Он посмотрел, как она аккуратно мажет масло на хлеб, и отвернулся.
— Не знаю. Считался одаренным человеком. В газете даже существовал такой термин — «храмовский стиль». На этот счет не раз шутили: такой-то слишком охрамился. А в новогоднем капустнике написали: «Имеются в продаже храмированные рассказы Лутченко».
— Очень любопытно. Тебе не налить сливок?
Максим поморщился:
— Оставь! — У жены спокойное, выспавшееся лицо. — Человек умер, понимаешь, человек!
В нем закипала злоба. Он понимал, этого не следует говорить, но все-таки сказал:
— Страшно подумать, что вот умрешь, а кто-то из людей, знавших тебя, будет так же сидеть за столом, намажет хлеб клубничным вареньем, откусит и, еще не прожевав, скажет: «Жаль».
Ее глаза сузились, краешком передника она вытерла губы.
— Скотина, беспощадная желчная скотина!
Ему как-то сразу расхотелось ругаться. Он даже почувствовал себя виноватым, Зачем все это? Не стоило начинать так день.
Смерть Храмова очень скоро забылась. Пожалуй, именно этот факт потряс его больше, чем сама смерть. С утра ему надоедали Чемряков и Лужин, торопились поздравить его, наперебой рассказывали новости: в министерстве переполох, в газете скандал. Намекали, что он-де все знал, иначе как понять его слова на летучке. Говорили про Гречушкина: «Ходит, как в бреду». Кропов стал неразговорчивым. А он смотрел на них и думал о Храмове, которого уже нет. И никто не вспоминает о нем, будто списки, где значилась его фамилия, потерялись, а так бы обратили внимание — другие есть, а вот Храмова нет, вычеркнут. Там, на похоронах, бородатый Алик говорил какие-то горькие, вечные в своей правоте слова. «Невозможно принять смерть, — говорил Алик, — невозможно ее оправдать, сколь бы прекрасной она ни была. Прекрасной бывает только жизнь. Призвание людей жить, в этом их талант. Существуют жуткие слова: «вскрытие показало». В лучшем случае — правильность диагноза, в худшем — его ошибку. Храмова нет с нами. Я спрашиваю себя: почему? Храмов любил говорить: «Умейте быть разными». В этом его трагедия». Гущин посмотрел на храмовский портрет в черном околышке, кивнул: «Ты прав. Он не простил людям своего прекрасного начала».
Рассеянность, равнодушие, какие-то непреложные ощущения. А Чемряков с Лужиным не собирались останавливаться, все говорили, говорили. Все впустую: не понял, не расслышал, уловил лишь фамилию Гречушкина.
— Постойте, хватит! — Они обиженно замолчали, а он ничего не пояснял, переворачивал листки настольного календаря. Он никак не мог найти телефонов райкома партии, куда следовало идти непременно. И опять же не просто так, а говорить о Гречушкине. Максим сожалел о своей поспешности, понимал, что защищать Гречушкина не должен, да и вряд ли сумеет пересилить себя. Не станет он его и ругать. За что? Струсил? Это скорее беда, нежели вина его. Да и неизвестно еще, струсил ли? Он не оправдывает Гречушкина. Пытается понять его. Несколько раз он пробовал к делу Гречушкина подключить Шувалова. Не получилось. Старик отмалчивался. Однажды он вызвал Максима и доверительно пожаловался ему: «Какая-то чепуха, голубчик. Делаешь добро, а его истолковывают иначе. Я, знаете ли, в глупейшем положении. Глеб Кириллович — честнейший человек, его нелепо подозревать, но он несправедлив. Урезоньте его. Мало ли кто нам не нравится? И пожалуйста, Максим Семенович, без скандала. Надо быть терпимее».

«Сейчас, когда мне за 80 лет, разглядывая карту Европы, я вдруг понял кое-что важное про далекие, но запоминающиеся годы XX века, из которых более 50 лет я жил в государстве, которое называлось Советский Союз. Еще тогда я побывал во всех без исключения странах Старого Света, плюс к этому – в Америке, Мексике, Канаде и на Кубе. Где-то – в составе партийных делегаций, где-то – в составе делегации ЦК ВЛКСМ как руководитель. В моем возрасте ясно осознаешь, что жизнь получилась интересной, а благодаря политике, которую постигал – еще и сложной, многомерной.

Куда идет Россия и что там происходит? Этот вопрос не дает покоя не только моим соотечественникам. Он держит в напряжении весь мир.Эта книга о мучительных родах демократии и драме российского парламента.Эта книга о власти персонифицированной, о Борисе Ельцине и его окружении.И все-таки эта книга не о короле, а, скорее, о свите короля.Эта книга писалась, сопутствуя событиям, случившимся в России за последние три года. Автор книги находился в эпицентре событий, он их участник.Возможно, вскоре герои книги станут вершителями будущего России, но возможно и другое — их смоет волной следующей смуты.Сталин — в прошлом; Хрущев — в прошлом; Брежнев — в прошлом; Горбачев — историческая данность; Ельцин — в настоящем.Кто следующий?!

Человек и Власть, или проще — испытание Властью. Главный вопрос — ты созидаешь образ Власти или модель Власти, до тебя существующая, пожирает твой образ, твою индивидуальность, твою любовь и делает тебя другим, надчеловеком. И ты уже живешь по законам тебе неведомым — в плену у Власти. Власть плодоносит, когда она бескорыстна в личностном преломлении. Тогда мы вправе сказать — чистота власти. Все это героям книги надлежит пережить, вознестись или принять кару, как, впрочем, и ответить на другой, не менее важный вопрос.

В своих новых произведениях — повести «Свадебный марш Мендельсона» и романе «Орфей не приносит счастья» — писатель остается верен своей нравственной теме: человек сам ответствен за собственное счастье и счастье окружающих. В любви эта ответственность взаимна. Истина, казалось бы, столь простая приходит к героям О. Попцова, когда им уже за тридцать, и потому постигается высокой ценой. События романа и повести происходят в наши дни в Москве.

Новая книга Олега Попцова продолжает «Хронику времен «царя Бориса». Автор книги был в эпицентре политических событий, сотрясавших нашу страну в конце тысячелетия, он — их участник. Эпоха Ельцина, эпоха несбывшихся демократических надежд, несостоявшегося экономического процветания, эпоха двух войн и двух путчей уходит в прошлое. Что впереди? Нация вновь бредит диктатурой, и будущий президент попеременно обретает то лик спасителя, то лик громовержца. Это книга о созидателях демократии, но в большей степени — о разрушителях.
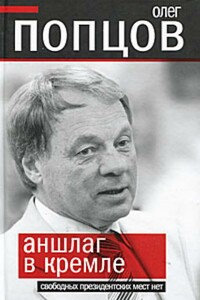
Писатель, политолог, журналист Олег Попцов, бывший руководитель Российского телевидения, — один из тех людей, которым известны тайны мира сего. В своей книге «Хроники времен царя Бориса» он рассказывал о тайнах ельцинской эпохи. Новая книга О. М. Попцова посвящена эпохе Путина и обстоятельствам его прихода к власти. В 2000 г. О. Попцов был назначен Генеральным директором ОАО «ТВ Центр», а спустя 6 лет совет директоров освобождает его от занимаемой должности в связи с истечением срока контракта — такова официальная версия.

Всё началось с того, что Марфе, жене заведующего факторией в Боганире, внезапно и нестерпимо захотелось огурца. Нельзя перечить беременной женщине, но достать огурец в Заполярье не так-то просто...

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».