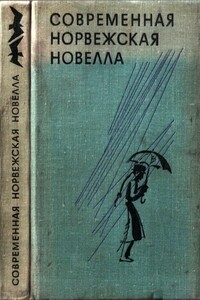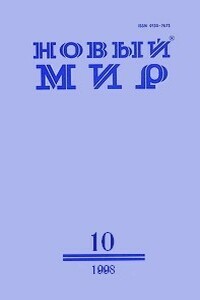Со всей ответственностью я заявляю и берусь доказать, что наш шторм был всем штормам шторм. Но — хотите верьте, хотите нет — воля ваша! Снасти выдержали! Казалось, будто шхуна взлетала на воздух. Это вовсе не значит, что она летала по-настоящему. Ни в коем случае! Когда старые морские волки начинают плести подобную околесицу, уж будьте уверены: они-то привирают. Нет, о том, чтобы летать на паруснике, и говорить не приходится. Но я, пожалуй, единственный на всем свете, кто чуть было не испытал это.
Дело в том, что во время шторма появились как раз такие волны, над которыми наука, пустив в ход все свои приборы, и посейчас ломает голову. Сверкая, волны эти поднимались всё выше и выше, а потом внезапно обрушивались вниз.
Ну и зрелище! Шторм! Корабль, где каждый на своем посту, а капитан — в кандалах!
И тут началось такое, от чего сохрани и помилуй боже всякого моряка. Вдруг раздались страшные раскаты грома, и вспышка молнии осветила серебристо-белую тень, выскользнувшую из черного мрака.
«Что это?» — шепнул мне штурман, стоявший на мостике.
А я в это время висел на реях и словно онемел. Видите ли, уже тогда я кое-что предчувствовал. Тень с подветренной стороны исчезла лишь для того, чтобы вынырнуть еще ближе к кораблю. И вот только тогда все поняли, в чем дело. Дубленые лица моряков покрылись смертельной бледностью, потому что рядом с нами на всех парусах шел какой-то корабль. Разрезая волны, он прогудел совсем близко, на расстоянии примерно десяти метров от нашего бугшприта[9]. Дьявольский хохот заглушил шум бури. В это мгновение месяц вырвался из-за туч и нам удалось разглядеть шхуну-призрак. Это был парусник смерти — Летучий Голландец!
С громким криком боцман прыгнул за борт, а за ним, дико воя, ринулся корабельный пес. Рулевой бросил руль и пустил шхуну по воле волн. Оверштаг[10] был поврежден, и шхуна, то и дело грозя перевернуться, болталась, петляла, прыгала и танцевала по волнам во всех направлениях розы ветров, пока не врезалась прямо в Летучего Голландца. И что вы думаете, этот Голландец оказался не чем иным, как старой лоханкой капитана Сюдо. И тут шхуна наша перевернулась.
Команду вышвырнуло в море, но мы изо всех сил старались держаться на поверхности воды, хотя бешеные волны подбрасывали нас чуть не до самого неба. Такие волны страшны были для парусников, а для пароходов они — сущие пустяки. Верно я говорю?
Так мы и болтались в море. Я судорожно вцепился в бугшприт. А тут еще, откуда ни возьмись, вынырнул наш шкипер и спросил, какой такой дьявол пустил шхуну ко дну, пока он спал. Он звенел наручниками и требовал, чтобы их немедленно сняли. В таком виде он, дескать, совершенно не в состоянии снова принять команду над шхуной.
Все мы потеряли уже надежду на спасение и покорно барахтались на волнах, дожидаясь смерти. И вот тогда-то появился капитан Сюдо. При виде его капитан Балле всерьез утратил мужество. С ужасом вспомнил он о заключенном пари. Я хочу сказать — о проигранном пари! Ведь он проиграл! И вот тогда-то я и помешал ему пустить себе пулю в лоб.
Сюдо спас нас, не скрывая своего глубочайшего презрения. Я настолько обессилел, что меня вместе с бугшпритом просто-напросто втащили на палубу, после чего я немедленно потерял сознание.
Когда я очнулся, Сюдо как раз указывал пальцем туда, где наш чудесный корабль потерпел крушение. Его гнусная улыбка и была, верно, той последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения и заставила поставить на карту всё, ради того только, чтобы капитан мой всё же выиграл пари.
«Как же так, выиграть пари без шхуны?» — быть может, спросит кто-нибудь из вас, заподозрив меня в том, что я сижу здесь и плету небылицы. «Да, без шхуны!» — отвечу я и, даже не моргнув, честно и открыто посмотрю вам прямо в глаза. Потому что суровый и пристальный взгляд может иногда быть столь же красноречив, как удар кулака по подбородку.
Пока воображала Сюдо назойливо мучил моего дорогого капитана, я ночи напролет обдумывал свои планы.
Капитан Балле состарился за эти дни. Горе и скорбь были написаны на его открытом, багрово-красном лице.
И вот в один прекрасный день мы оказались, наконец, между молами Нос-Шилдза, подошли к набережной и стали на якорь. Матросы толпились на сходнях, торопясь выйти на берег.
И тут-то Сюдо, эта низкая душонка, и начал свое вероломное нападение.
«Бились мы однажды об заклад…» — сказал он.
«Извините, — холодно и решительно, как всегда в минуту опасности, прервал я его, — но не могу ли я взглянуть на письменное условие этого пари?»
Слегка замешкавшись и окинув меня подозрительным взором, Сюдо вытащил бумагу и протянул ее мне.
Бросив многозначительный взгляд на Сюдо и многообещающий на Балле, я медленно и внятно прочитал следующий отрывок из этого документа: «… и финишем считается линия между молами. Нижеподписавшийся заверяет своей честью и совестью, что его бугшприт пересечет эту линию первым…»
Больше я читать не стал. Но жестом, которому в свое время мог бы позавидовать Эгиль Эйде[11] из Национального театра, я выразительно указал в сторону носа корабля-лоханки Сюдо.
Стояла мертвая тишина, когда оба капитана поднялись, чтобы рассмотреть бугшприт лоханки. Сюдо медленно наливался кровью, а мой капитан звонко шлепнулся на свернутые канаты и заплакал от волнения и выпитого им в тот день скверного виски. Потому что бугшприт нашего корабля был крепко прикреплен к носу лоханки Сюдо, этого жалкого подобия добропорядочной шхуны. Сомнений не было. Наш бугшприт пересек линию между молами на добрых два метра впереди бугшприта Сюдо.