Беседы о культуре - [5]
И еще: они просто были, светились для глаз, умеющих видеть, красотой, изяществом человечности. Повстречаться с ними в длинном университетском коридоре, поклониться им — уже было утешением.
Александр Николаевич Попов работал в молодости гимназическим учителем, что скромнее, но в некотором смысле первозданнее, чем «университетский преподаватель», — им он остался до гробовой доски. Это был невысокий, очень живой человек с быстрыми глазами, сверкавшими огненным вдохновением холерика. Такие люди в старости продолжают взбегать по лестнице, каждый раз расплачиваясь болью в сердце, продолжают говорить с живостью, с жаром, так что юношеская речь в сравнении с их речью кажется вялой. Спрягая с нами, первокурсниками, греческие глаголы, он выдерживал темп престо, престиссимо, пользуясь школьной указкой как дирижерской палочкой. Тот, к кому устремлялась указка, должен был тотчас назвать требуемую грамматическую форму, мгновенно получал похвалу или порицание, и тут же следовал новый взмах указки. В этом была какая-то славная бодрящая музыка. У Германа Гессе в наброске четвертого жизнеописания Йозефа Кнехта из черновиков «Игры в бисер» посвящение героя в таинство культурной традиции совершается через то, что ему раскрывается ритм движений старого учителя, всего-навсего затачивающего гусиное перо, но превратившего это дело в некий ритуал. Вот и указка Александра Николаевича запомнилась нам как орудие священнодействия. (Ух, и боялись же мы ее!)
Как все люди подобного склада, Александр Николаевич Попов был грозен, и отходчив, и великодушен. Он очень любил Жуковского и сам словно вышел из какого-нибудь уютного арзамасского стихотворения своего поэта. Ему очень нравилось: «Пред судилище Миноса Собралися для допроса...» — это был его ритм и его тип юмора, естественно в нем живший...
Жюстина Севериновна Покровская была вдовой известного историка латинского языка и римской литературы М. Покровского. Во всем ее облике, в каждом жесте и поступке жило благородство, доходящее до праведности. Это хорошо, что Лесков написал свои рассказы о праведниках, но куда лучше, что такие люди бывают на самом деле. От окру жающей среды к ним не липнет ничего не то чтобы грязного, а просто скучного, обыденного. Не любить ее не было никакой возможности. Голова у нее была хорошая, ясная, понятия обо всех вещах — просто на редкость здравые, а достойная старомодность осанки и толика чудачества, как у добрых персонажей Диккенса, только придавали ей дополни тельную прелесть. Она вообще была в старости красива, именно красива, и поэтому из всех похвальных существительных ей идет слово «благородство», в содержании которого добро и красота объединены и этическое неотделимо от эстетического. Ну, скажем так: если нужно совершить акт доброты, требующий мужества, и вокруг никто не спешит его сделать, тот, кто его все-таки совершит, будет хороший человек, порядочный человек; а благородный человек сделает то же самое еще и совсем естественно, так, как если бы иное поведение было физической невозможностью и трусости кругом просто не существовало.
И заодно уже вспомню ее сестру — очень прямо державшуюся Нину Севериновну, хотя она была всю жизнь музейным работником и к сюжету об университетских преподавателях отношения не имеет.
— А кто, кроме учителей, влиял на вас в студенческие годы?
— Конечно же, помимо учителей, у меня были товарищи, разговоры с которыми в студенческие годы многому меня научили. Я принадлежу к людям, созревающим поздно, а они, напротив, стали собой, обрели свою умственную форму необычайно рано, и потому у меня к ним было отношение чуть ученическое, хотя оба «главных» моих друга были сту дентами одновременно со мной: один старше меня на два с половиной года, другой даже на год моложе. Старший — мой коллега Михаил Леонович Гаспаров; младший — германист Александр Викторович Михайлов. Но оба они, слава богу, живы, и рассказывать о них было бы как-то неловко. Я хотел бы только засвидетельствовать, что редкая стройность мысли, имеющая столь разную окраску — логическую у Гаспарова и музыкальную у Михайлова,— была у них уже тогда, и еще — строгость отношения к своему делу.
— Вы только что затронули проблему научной строгости. В этой связи позвольте задать вопрос. Обычно считается, и это совершенно верно, что научный стиль должен быть строгим. Но под строгостью понимают скорее сухость, отстраненность исследовательского слога, некоторую даже холодность. Стиль ваших работ не попадает под такое опреде ление. Он приближается к стилю эссе. Но эссе — это литература, а ваши книги и статьи — наука. Какова же научная задача, предопределяющая внешне «ненаучный» стиль?
Ну что на это ответить? Я пишу так, как пишу, не потому, что ставлю перед собой задачу так писать, а просто потому, что не умею, не могу писать иначе. Я не выбирал своего стиля, как не выбирал своего роста или формы носа. Я не просто так пишу — я так думаю. У других, например у покойного А. Доватура, мне очень нравится полное отсутствие «художественности» — красота мысли, обходящаяся без красот слова. В этом есть что-то целомудренное. Но что делать — я думаю иначе и потому пишу иначе. Когда я рассуждал в одной своей статье о ритме, который «ведет за собой мысль, как ритм маршировки ведет солдата на долгом переходе», это было близко моему собственному опыту. Теряя ритм, я теряю тягу, которой движется моя мысль.

Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.

Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.

Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.

«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.

Уникальная книга профессора лондонского Королевского колледжа Джудит Херрин посвящена тысячелетней истории Восточной Римской империи – от основания Константинополя до его захвата турками-османами в 1453 году. Авторитетный исследователь предлагает новый взгляд на противостояние Византийской империи и Западного мира, раскол христианской церкви и причины падения империи. Яркими красками автор рисует портреты императоров и императриц, военных узурпаторов и духовных лидеров, талантливых ученых и знаменитых куртизанок.
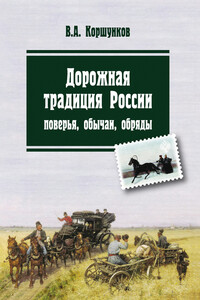
В книге исследуются дорожные обычаи и обряды, поверья и обереги, связанные с мифологическими представлениями русских и других народов России, особенности перемещений по дорогам России XVIII – начала XX в. Привлекаются малоизвестные этнографические, фольклорные, исторические, литературно-публицистические и мемуарные источники, которые рассмотрены в историко-бытовом и культурно-антропологическом аспектах.Книга адресована специалистам и студентам гуманитарных факультетов высших учебных заведений и всем, кто интересуется историей повседневности и традиционной культурой народов России.
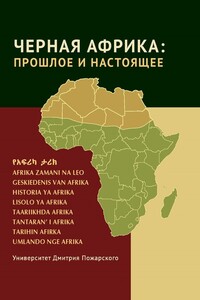
Авторский коллектив – сотрудники Института всеобщей истории РАН, Института Африки РАН и преподаватели российских вузов (ИСАА МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ) – в доступной и лаконичной форме изложил основные проблемы и сюжеты истории Тропической и Южной Африки с XV в. по настоящее время. Среди них: развитие африканских цивилизаций, создание и распад колониальной системы, становление колониального общества, формирование антиколониализма и идеологии африканского национализма, события, проблемы и вызовы второй половины XX – начала XXI в.