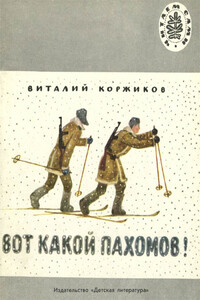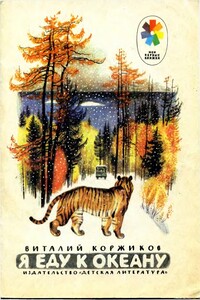Бережок - [7]
Они с братом тоже пришли. Но у них не было посуды. Тогда Федя, онкель Федя, достал свою алюминиевую миску, обтёр её и, налив до самого верха, протянул им с вкусным — ох каким вкусным! — куском хлеба…
Мы переглянулись. Так вот зачем звал нас старый повар, вот о чём так хотелось ему рассказать!
А он, заметив наши взгляды, сказал:
— Онкель был совсем маленьким, ганц кляйн, — и повар задержал у груди руку, показывая, какого роста был солдат дядя Федя. — Но борща и хлеба у онкеля Феди хватало для всех детей. Фюр аллен киндерн.
Немец вспомнил, как помогал онкелю Феде топить кухню, раздавать хлеб, и вдруг решительно сказал:
— Если б не онкель Федя, я бы никогда не стал поваром! А так всю жизнь готовлю, плаваю и в разных странах, где только мог, кормил голодных детей.
Он улыбнулся и, уже прощаясь, сказал:
— Вот хотел угостить и вашего товарища. Но Федя спит. Спит онкель Федя.
И снова стало тихо, только где-то качнулись колокольцы, будто нежно повторили: «Он-кель, он-кель…»
Мы разом заговорили: вот ведь как бывает! Столько лет прошло, а дядя Федя, если жив, и не знает, что вспоминают его сейчас. И где? — В Японии! Запомнился солдат дядя Федя человеку на всю жизнь.
Штурман улыбнулся:
— Наш-то Федя тоже ростом не очень вышел…
На рассвете мы уходили. Берег ещё спал. Но рыбаки уже тянули сети. На корме немецкого танкера снова стоял грузный человек. Он был опять в белой куртке, в колпаке — повара встают рано — и негромко кричал нам:
— Передайте привет онкелю Феде!
Мы кивали, хотя не очень-то поняли, какому онкелю передать привет: нашему Феде или тому, который когда-то после боя наполнял мальчишечьи миски и котелки солдатским борщом. Скорее всего обоим.
За бортом всё больше дымилась на морозце вода. Над спящим городком всё отчётливее вырисовывался старый вулкан. В одном из домиков у его подножия спал ещё японский мальчик, у которого тоже был теперь свой Федя. Свой дядя Федя.
БЕРЕЖОК
ТИХАЯ РЕЧКА
Как-то во время отпуска, ароматным летом, в таёжном селе, не вытерпев жары, решили мы с сыном поплескаться в реке и наловить раков.
— Раков? — спросил нас сосед, агроном совхоза, садясь в «газик». На карася он бы время нашёл, а возиться с какими-то раками было некогда. — Так это вам надо на Раковку, — сказал он.
— На Раковку, на Раковку, — подтвердила из-за забора собиравшая огурцы соседка.
И, взяв старый котелок, мы отправились искать Раковку.
Прошагали село, вышли на звонкое от кузнечиков поле и остановились. Впереди, покачивая облака, тигриным семейством растянулись на заре рыжие пушистые сопки, а возле них, у самых мокрых лап, тащила брёвна работящая река.
— Это не наша. В таком шуме раки водиться не станут, — решили мы и потопали дальше.
Переправились через реку, забрались в прохладную моховую глушь, а Раковки всё не было. И мы стали сердиться:
— И где она, эта Раковка?!
И тут, среди папоротников, за большой рекой, блеснула малая. Вода золотилась в ней медовыми струйками, лужицы в солнечных пятнах желтели, как блюдечки мёда, на травинках вспыхивали зелёные стрекозы, а в сторону от нас медленно уползал недовольный удавчик.
Сын бросился за ним, но вдруг глянул под ноги и закричал:
— Раки!
Мы быстро нахватали их полный котелок. Они зашевелились, зашебуршали, будто бы заворчали:
— Ну и вредные мужики попались! Сейчас домой понесут, огонь разведут, варить будут!
Но мы присели на поваленное бревно рядом с дедом, который ловил пескарей для наживы, и стали слушать тишину. И капли воды из родника. И шелест травы под брюхом уползающего удавчика. И высоко-высоко звук реактивного самолёта.
— Тихая речка! — сказал сын.
— А чего ей шуметь? О чём рассказывать? — подумал я вслух. — Это тебе не кит, который по всем океанам прокочевал. Она-то всего два-три километра по земле бежит.
— И то верно, — усмехнулся дед. — Что с неё возьмёшь? Чего ей шуметь? Не Амур, не Волга. Раковка. Что в ней? Пескари да раки. Что на ней было? Кто знает? Разве что когда-то белых туда-сюда гоняли. Да японский офицер погнался за разведчиком, саблю потерял. А уж как пошли партизаны гнать самураев да беляков до Тихого океана, так эта Раковка из-под копыт до самого неба летела!

Две повести («Мы идём на Кубу» и «Волны словно кенгуру») о плавании советских моряков в дальние страны на Кубу, в Японию, Америку, Индию, о встречах с интересными людьми, о морских приключениях, участником которых был сам автор.

В книгу вошли стихи и рассказы о море и моряках, о морских приключениях и далёких плаваниях, а также повесть «Волны словно кенгуру» — о кругосветном путешествии, в котором участвовал сам автор.Книга адресована детям младшего школьного возраста.

Увлекательные приключения юного матроса Алешки Солнышкина на борту парохода `Даешь!` не оставят равнодушным даже самого ленивого читателя. А команды бывалого капитана Плавали-Знаем обязательно вызовут у вас улыбку.Содержит 42 иллюстрации Г. Валька.
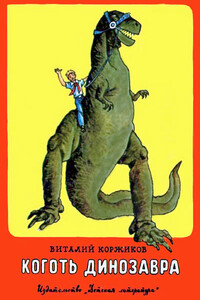
Повестьо поездке советских пионеров в Монголию, в пустыню Гоби; о встречах с интересными людьми, о дорожных приключениях.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».

Из предисловия:Владимир Тендряков — автор книг, широко известных советским читателям: «Падение Ивана Чупрова», «Среди лесов», «Ненастье», «Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд» и др.…Вошедшие в сборник рассказы Вл. Тендрякова «Костры на снегу» посвящены фронтовым будням.
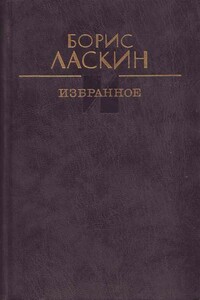
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга написана о людях, о современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях. Это люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края».Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.