Балкон в лесу - [52]
— Уходи! — снова заговорил он раздраженно. — Темнеет уже.
Он протянул ему компас. Гуркюф стоял перед ним как вкопанный, опустив голову; носком башмака он нерешительно ковырял веточки на мху. Темнота быстро сгущалась, уже стирала лица.
— Как бы я хотел остаться здесь, — вымолвил наконец Гуркюф, скривившись, точно хотел заплакать.
Он держал компас на вытянутой руке, неловко, как блюдце с кофейной чашкой.
— Не валяй дурака. Сматывайся. Пропадешь здесь ни за грош. Это приказ, — добавил Гранж тоном, поневоле показавшимся ему слегка пародийным.
Снова у него возникло ощущение, что эта война даже в мелочах что-то пересмеивала, хотя и невозможно было понять; что именно.
Прошло несколько секунд, Гуркюф тряхнул головой, налил четвертинку вина и поставил ее на мох рядом с Гранжем; из своего вещмешка высыпал на газету несколько горстей сухарей. Затем он поудобнее прислонил Гранжа к каштану и набросил ему на ноги свое одеяло. Гранж догадывался, что он нарочно тянет время. Когда ему больше уже нечего было делать, он, скрестив ноги, присел на корточки рядом с каштаном. Трутовой зажигалкой Гуркюфа зажгли сигареты. Установилась темнота; из предосторожности они накрывали панцирем своих касок крошечные алые точки, которые, как угольки, уже сверкали в ночной мгле.
— Что ж, господин лейтенант, так тому и быть, раз вы хотите… — промямлил Гуркюф, когда они пожелали друг другу удачи. — Если я еще найду там парней, мы вернемся за вами, — добавил он благопристойно.
Он стал отходить за деревья, с трудом волоча ноги, — неуклюжая, косолапая громадина, мало-помалу углублявшаяся в чащу. Время от времени он останавливался, оборачивался, и Гранж догадывался, что он бросает в его сторону панический взгляд пса, который дал тягу, но, обернувшись, вдруг забеспокоился, что никто его больше не подзывает.
Он долго вслушивался в треск ветвей, который, удаляясь, становился все слабее и слабее, поглощаемый лесом, как камень водой. Когда он находился в полной неподвижности, нога почти не причиняла ему боли. Прохлада, опускавшаяся вместе с ночной мглой, не была пока неприятной. Машинально он принялся грызть кусок сухаря, затем выплюнул его: гипсовая мука липла к языку; снова хотелось пить. Меж ветвей над ним еще тянулся остаток зеленоватого сияния; на лес нисходило оцепенелое спокойствие первых мгновений ночи, когда еще не пробудились для перелетов ночные птицы.
В этот час жил пока только один лес, но не звери: время от времени в зарослях распрямлялась после дневной жары какая-нибудь ветка, вызывая пальмовый шелест, томный и перистый, — шелест садов после дождя.
«Какая отрешенность!» — подумал он.
В голове у него мелькали воспоминания о странной земле без людей, о прогулках в зимнем лесу, о послеполуденных часах в доме-форте, когда в окно было видно лишь, как в дымчатом сиянии солнца на ветках одна за другой наливаются теплые капли оттепели. Вслед за этим проносилась война, странная, нелепая, как ночной экспресс, чей грохот, резко нарастая, катится к горизонту и стихает затем на равнине. Он лежал на земле, вытянувшись почти во весь рост, начиная ощущать холод, но уже переполняемый невыразимым чувством покоя.
«Мне хорошо здесь…» — сказал он себе.
Ему вдруг подумалось, что война проиграна, но подумалось бесстрастно, рассеянно. «Я демобилизован», — подумал он еще. И тут его осенило: Фализы совсем рядом. Мысль о логовище, о замкнутом пространстве мало-помалу превращалась в наваждение; ему вспоминалось, что все раненые ползут к какому-нибудь дому. Совсем рядом с домом Моны был глубокий колодец, колодец со свежей водой. От воспоминания об этой черной воде у него пересыхало в горле; он ощущал во рту ее вкус, ее сладостное, холодное прикосновение.
«Чуть позже я попытаюсь, — сказал он себе. — Но только не сейчас. Нужно набраться сил».
Он покивал в темноте головой, довольный тем, что так здраво рассуждает. Тропинка, которая вела в Фализы, должна была проходить совсем рядом, где-то на востоке. Но где был восток? Он вдруг вспомнил, что отдал компас Гуркюфу; неистовый, упрямый гнев резко отбросил его к дереву; две-три крупные слезы исступления потекли у него по щекам. Но вопреки воле сознание его расплывалось, теряло свои якоря; он подумал, что Оливон и Эрвуэ, вероятно, будут награждены: никто не мог сказать — никто, — что они не защищали блокгауз.
«Посмертно», — заключил он. Это слово механически вертелось у него в голове; оно ему казалось неясным, но значительным, внушительным, как те печати на старых официальных пергаментах, что стягивают концы шелковой ленты. Жар вновь охватывал его: он понял, что если промедлит, то не сможет больше встать на ноги. Он выпил немного вина из кружки Гуркюфа и засунул сухари в карман; затем срезал ножом ветку у себя над головой и вытесал из нее палку. После нескольких минут усилий ему удалось подняться; при условии, что не будет сгибать ее в колене, он мог помогать себе раненой ногой — почти как деревянной. Справа через равные промежутки времени в довольно светлой ночи раздавался лай собак; он углубился в лес, в ту сторону, и шагов через сто вышел на фализскую тропу. Нетерпение, детская тревога теперь толкали его вперед, заставляя шаг за шагом вырывать поврежденную ногу из ям на черной тропинке; он шагал к дому, как если бы его там ждали. В висках стучало от жара, он останавливался и, обливаясь потом, снова прислушивался к безмолвию зарослей, удивляясь, что этот окружавший его мир пропускал человека, как пропускает воду куча песка. Слабость охватывала его затылок; он бросил каску — прохладный воздух вокруг шеи принес облегчение. «Никого! — беззвучно повторял он. — Никого!» Снова на глаза у него навернулись слезы; сердце его сжималось. «Наверное, я умру», — подумал он еще. Рассудок его захлебывался, а мысли обрывались, увлекаемые все возрастающей тяжестью: теперь он думал о гангрене, которая начинается в зараженных ранах; внезапно его пронзила навязчивая, бредовая мысль, что нога чернеет; он остановился, лег на землю и принялся задирать штанину. «Я забыл свой фонарик», — вдруг подумал он и снова затрясся всем телом от неистового, бессильного гнева; наклонившись вперед, вытягивая свою больную поясницу, он с бычьим упорством пытался в густом мраке приблизиться глазами к ноге. Он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание, по спине опять покатились струйки холодного пота; он лег на бок, и его несколько раз слабо вырвало на траву красным вином и теми крохами сухарей, что он съел. Однако стоило Гранжу полежать без движения, как ему вновь становилось легче, силы возвращались — его охватывало чувство покоя, глупого счастья, как если бы он воспарил над землей. «Можно подумать, что я выздоравливаю, — подумал он. — Но от чего?» Он пролежал так добрый час. Он уже не спешил вновь пуститься в путь; он смотрел вверх на ветви, полусводом закрывавшие дорогу на фоне более светлого неба; ему казалось, что ночь перед ним расстилается по мере того, как разворачивался этот непостижимо длинный и безмятежный свод; он чувствовал себя потерянным, совершенно потерянным, выбитым из привычной колеи: никто больше не ждал его — никогда — нигде. Этот миг казался ему восхитительным. Когда холод сделался невыносимым, он почти без труда встал на ноги. Тропинка тут же затвердела под его шагами, которые отзывались в темноте обширным и приглушенным эхом пустой комнаты; он и не заметил, как очутился в деревне: с этой стороны длинные глухие стены риг вплотную примыкали к лесным зарослям. В самом начале улочки, на которую выходил дом Моны, он остановился в последний раз и прислушался. Проступавшие из мрака окоченелые коньки стен и домов делали здесь ночь как бы более прозрачной и пустой. Тишина была абсолютной, но это не была тишина леса. Это была вдовствующая тишина, с оттенком грусти и отрешенности, который придают ночи выступы каменных стен. И только справа, где между деревушкой и лесом чуть приоткрывалась поляна, примятые майской пеной сады несли к черным домам мягкое дыхание прилива, который приподнимал ночь и, казалось, неподвижно взбухал под звездным небом; временами на другом конце деревни то замолкала, то вновь принималась лаять собака — к нему возвращалось ощущение сладостного волшебного покоя, завладевшее им на дороге. На улочке он вдруг почувствовал, что силы его на исходе, отбросил палку и ухватился одной рукой за ограду, а в другой он уже сжимал завернутый в носовой платок ключ; благоухание садов ударяло ему в голову. «Я почти у цели, — думал он. — Я возвращаюсь домой!» Зубы его стучали, ключ в руке дрожал, не столько от лихорадки, сколько от безудержного нетерпения; он то и дело хватался за запястье левой руки, пытался унять безумную дрожь. «Мне не открыть, — подумал он, поддерживая рукой свою непомерно тяжелую голову. — Мне не открыть». Он, однако, нашел в себе силы запереть за собой дверь на два оборота, затем, в густой темноте, вытянув перед собой руки, двинулся в глубь комнаты, наткнулся коленом на край кровати и навзничь рухнул на нее, широко раскинув ноги.
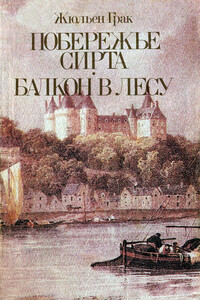
Жюльен Грак (р. 1910) — современный французский писатель, широко известный у себя на родине. Критика времен застоя закрыла ему путь к советскому читателю. Сейчас этот путь открыт. В сборник вошли два лучших его романа — «Побережье Сирта» (1951, Гонкуровская премия) и «Балкон в лесу» (1958).Феномен Грака возник на стыке двух литературных течений 50-х годов: экспериментальной прозы, во многом наследующей традиции сюрреализма, и бальзаковской традиции. В его романах — новизна эксперимента и идущий от классики добротный психологический анализ.

«Замок Арголь» — первый роман Жюльена Грака (р. 1909), одного из самых утонченных французских писателей XX в. Сам автор определил свой роман как «демоническую версию» оперы Вагнера «Парсифаль» и одновременно «дань уважения и благодарности» «могущественным чудесам» готических романов и новеллистике Эдгара По. Действие романа разворачивается в романтическом пространстве уединенного, отрезанного от мира замка. Герои, вырванные из привычного течения времени, живут в предчувствии неведомой судьбы, тайные веления которой они с готовностью принимают.
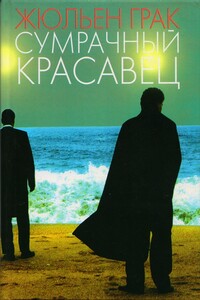
"Сумрачный красавец"-один из самых знаменитых романов Жюльена Грака (р. 1910), признанного классика французской литературы XX столетия, чье творчество до сих пор было почти неизвестно в России. У себя на родине Грак считается одним из лучших мастеров слова. Язык для него — средство понимания "скрытой сущности мира". Обилие многогранных образов и символов, характерных для изысканной, внешне холодноватой прозы этого писателя, служит безупречной рамкой для рассказанных им необычайных историй.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.

А что, если начать с принятия всех возможностей, которые предлагаются? Ведь то место, где ты сейчас, оказалось единственным из всех для получения опыта, чтобы успеть его испытать, как некий знак. А что, если этим знаком окажется эта книга, мой дорогой друг? Возможно, ей суждено стать открытием, позволяющим вспомнить себя таким, каким хотел стать на самом деле. Но помни, мой читатель, она не руководит твоими поступками и убеждённостью, книга просто предлагает свой дар — свободу познания и выбора…

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.

За что вы любите лето? Не спешите, подумайте! Если уже промелькнуло несколько картинок, значит, пора вам познакомиться с данной книгой. Это история одного лета, в которой есть жизнь, есть выбор, соленый воздух, вино и море. Боль отношений, превратившихся в искреннюю неподдельную любовь. Честность людей, не стесняющихся правды собственной жизни. И алкоголь, придающий легкости каждому дню. Хотите знать, как прощаются с летом те, кто безумно влюблен в него?