Азорские острова - [58]
, нехотя заучивали наизусть, за которого нам ставили пятерки или единицы, которого по призыву Алексея Крученых даже собирались «сбросить с корабля современности», – нет, что вы! Этот Пушкин поражал новизной и открывался вдруг, как чудо; каждая строчка этого Пушкина блистала, тревожила, улыбалась, звала. Думаю, что с Пушкиным у многих так происходило: открывался именно вдруг и на всю жизнь.
Я словно в столбняке сидел, боясь пошевелиться, спугнуть очарование. И лишь когда шумно зашелестели аплодисменты, вскочил, кинулся опрометью к выходу, с отчаянной решимостью остановить Загоровского, заговорить с ним, напроситься на его вечера.
Он долго не появлялся из комнаты, примыкавшей к эстраде, или «артистической», как ее называли: видимо, остался послушать концерт. До меня доносилась приглушенная музыка, я узнавал исполнителей: грозовые раскаты рояля – это известный скрябинист Г. И. Романовский; нежнейший вздох виолончели – Вольф-Израэль; квартет скрипачей – еще очень юные музыканты – П. Мирошников, М. Крячко, А. Рязанцев, А. Тимкин… Сцена на кладбище из «Каменного гостя» – студийцы Михаил Синий и Миша Берлин. Дон-Жуан и Лепорелло… Я терпеливо ждал.
Нот вот он вышел в антракте. Я кинулся к нему:
– Товарищ Загоровский!
Говор, шарканье шагов. Он не слышит. В отчаянии схватил за рукав.
– Вы ко мне? – обернулся. – Вы что-то хотите сказать?
Боже мой – сказать! Как скажешь, если глотку словно клещами перехватило, если язык онемел!
– Я… я… Позвольте мне к вам…
Он участливо и даже как будто с интересом вглядывался в мое, скорей всего, смешное, растерянное лицо. И вдруг:
– Вы пишете стихи? – спросил, видимо уверенный в том, что так оно и есть, что иначе и быть не может. – Приходите, конечно, искренне будем рады. Мы собираемся по четвергам. Запишите: Поднабережная, семь. Это на углу Манежной. Обязательно приходите…
Его окликнули, он сказал: «Простите, зовут», – поклонился и ушел, смешался с многолюдством А я, счастливый, обалдело глядел вслед и все повторял:
– Поднабережная, семь… Поднабережная, семь…
Улица моя роковая!
Стала задача: с чем идти, что прочитать? Вот когда робость лихорадкой заколотила – не осрамиться бы… Рассказал Гилевичу, тот заржал:
– Отлично! Вместе пойдем.
– Да, но что нести?
– Фу, черт! Тащи все – и «Ташкентские» и «Кабатчицу».
– «Трактирщицу», – поправил я.
– Какая разница, – пожал плечами Исак.
В половине восьмого мы отправились.
И – вот она, моя милая Поднабережная: знакомые, тысячу раз исхоженные, щербатые ступеньки тротуара; знакомая тишина, распахнутые настежь окна, музыка… И – белый двухэтажный дом, аккурат напротив того, другого, где жила семья присяжного поверенного. «Любить и целова…» Охапки кленовых листьев в карачунском кувшине… Все, все мгновенно откликнулось, вспомнилось, как вдруг проблеснувшая строчка стиха, – радостно и тревожно.
Но вот – черной клеенкой обитая дверь, визитная карточка: «Павел Леонидович Загоровский». Что ж этак топтаться-то у порога, надо звонить. Мы поискали кнопочку звонка, не нашли, постучали. Дверь открыл сам хозяин.
– А-а! Чудесно, чудесно! Сюда пожалуйте…
Через крохотную переднюю ввел нас в такой же крохотный кабинетик, где была уютная теснота от книжных полок и людей; где пронзительный девичий голос в общем гуле голосов кричал что-то о балалайке, а мрачный, глухой бас упрямо возражал: «Позвольте, Танечка, какая же это рифма, это черт знает что, а не рифма…»
– Знакомьтесь, – посмеиваясь, сказал Загоровский. – Вот, прошу, начнем со спорщиков: Таня Русанова, поэтесса (жест рукой в сторону худенькой, непоседливой девицы)… Пузанов Веньямин Петрович, прозаик…
Девица так и взметнулась.
– Вот вы, вот вы, – налетела на нас с Исаком, – вот вы скажите ему – какой ассонанс! «Балалайка – алым лаком»! А? Ведь как звучит!
– Черт знает что! – басил Вениамин Петрович. – При чем тут алый лак, не понимаю…
Он стоял, огромный, под потолок; из рукавов грубого самовязного свитера виднелись могучие толстопалые руки; лицо доброго славянского великана выражало огорчение и растерянность. И вдруг улыбнулся, весь расцвел добродушием.
– Ну, ну, мир, Танечка! Что же это мы с вами так раскричались из-за какой-то дурацкой балалайки…. Новые люди, что подумают, а?
Еще тут были: Миша Выставкин, поэт (золотая копна есенинских кудрей); странный восторженный мальчик, которого называли Поль (и который, кажется, ничего не писал, молчал весь вечер, а под конец вдруг ни с того ни с сего закричал, что в русской поэзии существует один лишь поэт – Георгий Петников); затем – рыжий, как медный таз, прозаик, красном Сапилевский; и, наконец, две девицы в летах – поэтессы.
Когда закончилась церемония представлений, нам велели читать. «Такой порядок, – сказал Павел Леонидыч. – Новички читают первыми».
И зазвенели Исаковы черные топоры, и зашумел мой кабачок, где:
Исак рубил наизусть, хрипловато, отрывисто; я – по бумажке, спотыкаясь, теряя голос, с отчаянием сознавая собственную бездарность. С превеликим трудом, через силу, дочитал и понял, что осрамился, пропал. Будто не я прошлой осенью, когда узнал, что напечатаны мои стихи, носился по городу всю ночь, когда уже – вот оно! – казалось, видел сияние славы, возмечтал высоко… Теперь ту ночь вспоминал с отвращением, со стыдом; казнил себя, что сам напросился на этот вечер к Загоровскому; что ужасно прочел – и что прочел! – глупейшие стишки о выдуманной трактирщице, о какой-то дурацкой, несуществующей стране… Да еще эта манерная, неуклюже-кокетливая последняя строфа, что «ведь кому-нибудь приглянется уютный этот синий мир, и «свои козыри», и пьяницы, и мне приснившийся трактир»! Стыд! Стыд! Руки надо рубить, чтоб не смел сочинять, не срамился бы с чтением… И вот теперь жди страшного позора, насмешек… Так, наверно, приговоренный, с завязанными глазами, ждет, когда свистнет над плахой обоюдоострый меч палача и…

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.
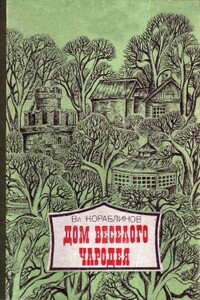
«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
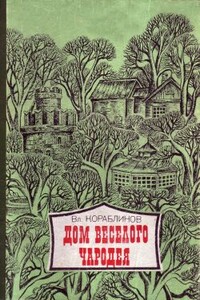
«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».
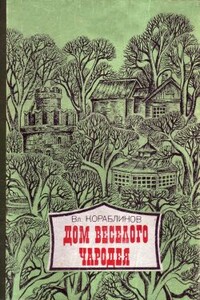
«… На реке Воронеже, по крутым зеленым холмам раскинулось древнее село Чертовицкое, а по краям его – две горы.Лет двести, а то и триста назад на одной из них жил боярский сын Гаврила Чертовкин. Много позднее на другой горе, версты на полторы повыше чертовкиной вотчины, обосновался лесной промышленник по фамилии Барков. Ни тот, ни другой ничем замечательны не были: Чертовкин дармоедничал на мужицком хребту, Барков плоты вязал, но горы, на которых жили эти люди, так с тех давних пор и назывались по ним: одна – Чертовкина, а другая – Баркова.
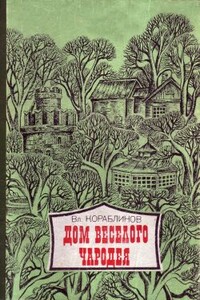
«… Со стародавних времен прижился у нас такой неписаный закон, что гениям все дозволено. Это, мол, личности исключительные, у них и психика особенная, и в силу этой «особенной» психики им и надлежит прощать то, что другим ни в коем случае не прощается.Когда иной раз заспорят на эту тему, то защитники неприкосновенности гениев обязательно приводят в пример анекдоты из жизни разных знаменитых людей. Очень любопытно, что большая часть подобных анекдотов связана с пьяными похождениями знаменитостей или какими-нибудь эксцентричными поступками, зачастую граничащими с обыкновенным хулиганством.И вот мне вспоминается одна простенькая история, в которой, правда, нет гениев в общепринятом смысле, а все обыкновенные люди.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Заговоры против императоров, тиранов, правителей государств — это одна из самых драматических и кровавых страниц мировой истории. Итальянский писатель Антонио Грациози сделал уникальную попытку собрать воедино самые известные и поражающие своей жестокостью и вероломностью заговоры. Кто прав, а кто виноват в этих смертоносных поединках, на чьей стороне суд истории: жертвы или убийцы? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ автор. Книга, словно богатое ожерелье, щедро усыпана массой исторических фактов, наблюдений, событий. Нет сомнений, что она доставит огромное удовольствие всем любителям истории, невероятных приключений и просто острых ощущений.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.