Азорские острова - [56]
Но помню, что, сочинив, ужасно хотелось прочесть ей эти строки, однако взяла робость, застыдился, потому что «любить и целова…» – это ведь, в сущности, было признание. И продолжал обожать сокровенно, мучительно, краснея и запинаясь – и год, и два, пока не уехала в Ленинград, где вскоре вышла замуж.
Как полузабытые стихи, как мимолетное озарение, живет в памяти невзрачный дом на Поднабережной.
Как негромкая музыка, услышанная во сне: милые голоса, звонкие переливы иволги, гаммы на расстроенном рояле.
Как-то все в одно время сошлось – и первые напечатанные стихи, и влюбленность, и встреча с Загоровским.
Тут, пожалуй, чуточку сойду в сторону с главной дороги и кое-что расскажу о делах своих учебных. Я все еще пребывал в кооперативном училище, поклевывал носом на уроках бухгалтерии и товароведения, без особого усердия помаленьку одолевал другие науки. Почему-то жила во мне твердая уверенность, что все это – ненадолго, что вся эта скука – покамест, а дальше…
Но что дальше, я не знал.
На какое-то время нас, будущих кооператоров, развеселил новый учитель по литературе. Однажды в класс вошел невзрачный, средних лет гражданин в кургузой, сильно потертой кожаной курточке, с лицом, которое можно было бы назвать неприметным, заурядным, если б оно так удивительно не походило на еще не забытые портреты последнего русского царя. Не спеша, деловито вытащил он из брезентового замызганного портфельчика какие-то тетрадки и книги, и, как-то странно, дурашливо подмигнув, – «Ну, давайте знакомиться», – хихикнул.
Затем сказал, что до сего дня методика преподавания литературы была ошибочна: курс для чего-то начинался с непролазных дебрей древних авторов, и все эти Кантемиры да Ломоносовы с их чудовищными архаизмами одну лишь скуку наводили на молодых людей и, собственно, достигали одного: прививали навечно ненависть к литературе.
– Нужно ли нам, товарищи, копаться в подобной старине? – надменно задрал рыжеватую бородку, заложив руки за спину, покачался с носка на каблук. – Нет, не нужно! – рубанул кулаком, как на митинге. – Решительно не нужно! Вам ли понять, – не меняя голоса, как бы продолжая разговор с нами, зашагал от стены к стене, —
Он дочитал до конца Пролог к трагедии, затем продиктовал прочитанное и, когда мы записали, велел всем читать хором. Мы веселились. Еще бы! Его предшественник был на редкость занудливый старичок. С ним мы безнадежно застряли в восемнадцатом столетии, а тут вдруг – через века! – Маяковский!
Это было здорово, и мы примирились с его императорской внешностью. Невероятная литературная карусель завертелась на уроках. Он любил читать стихи – и чего мы только не наслушались! Безумное поэтическое месиво хлынуло из недр замызганной курточки. Уроки пролетали опрометью, в неизменном веселье. Северянинское «Зашалила, загуляла по деревне молодуха» и бальмонтовские «кинжальные слова» и «предсмертные восклицанья», хлебниковская «смеярышня смехочеств», андреебеловское «носом в лужу, пяткой в твердь», и даже окаянный мой Коринфский Аполлон со своими «бывальщинами», – вся эта литературная чехарда сперва развлекала, радовала, что с Кантемиром покончено, что на уроках позволяется валять дурака.
Но через короткое время сделалось скучновато. Учитель сам оказался стихотворцем. Он принялся душить нас собственными сочинениями, которые также записывались и читались хором в тридцать глоток.
– Снеж-ж-но-неж-ж-ные одеж-ж-жды, – уныло голосили мы, – мать-земля подснеж-ж-жно спит… Тихо-тихо, безмятеж-ж-жно, даже ветер не ш-ш-шумит…
После чего нудно толковал об аллитерации.
И вот, когда он затарахтел своими бездарными виршами, – рыжая государева бороденка, водянистые глазки и кожаная его курточка стали мне ненавистны. Я перестал посещать уроки литературы, а заодно и множество прочих.
Тут кстати в училище началась чистка по социальному происхождению, и меня исключили. Я даже обрадовался, что так случилось: наконец-то пришло время расстаться со счетоводством!
Начал жить сам по себе. Вольный ветерок жутковато засвистел в ушах. К этому времени и любовное наваждение рассеялось. Какие-то неясные мечтания стали одолевать, захотелось уехать в Ташкент. Но почему именно в Ташкент – едва ли понимал. Потому, верней всего, что – экзотика. Халаты. Верблюды. Басмачи. Необычайность.
Не то что у нас, где на зеркальных стеклах пивнушек ярко-красные, окантованные золотом, таращились великанские раки; из бесчисленных вертепов музыка тараторила вприпрыжку: «Джон Грей был всех смелее, Кэтти была прекрасна…» Франты носили узенькие, короткие, выше щиколотки, брючки, остроносые ботинки «джимми» и плоские шляпы-канотье. И лихачи с чистокровными, но бракованными на Хреновском заводе, хрипящими рысаками чертями носились по проспекту, шипя резиновыми шинами красноспицых колес…

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.
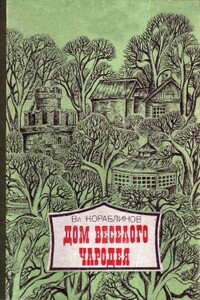
«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
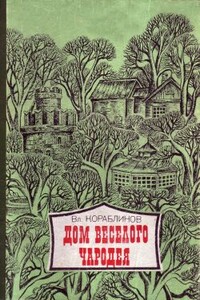
«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».
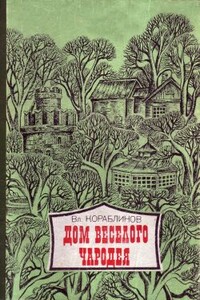
«… Наконец загремела щеколда, дверь распахнулась. Кутаясь в старенький серый платок, перед Мочаловым стояла довольно высокая, худощавая женщина. На сероватом, нездоровом лице резко чернели неаккуратно подведенные брови. Из-под платка выбивались, видно еще не причесанные, черные волосы. Синяя бархотка на белой худенькой шее должна была придать женщине вид кокетливой игривости. Болезненность и страдание провели множество тонких, как надтреснутое стекло, морщинок возле рта, на щеках. Все в ней было жалко и нехорошо.
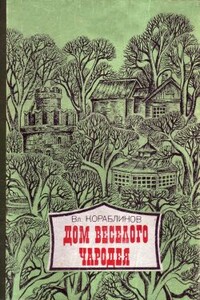
«… На реке Воронеже, по крутым зеленым холмам раскинулось древнее село Чертовицкое, а по краям его – две горы.Лет двести, а то и триста назад на одной из них жил боярский сын Гаврила Чертовкин. Много позднее на другой горе, версты на полторы повыше чертовкиной вотчины, обосновался лесной промышленник по фамилии Барков. Ни тот, ни другой ничем замечательны не были: Чертовкин дармоедничал на мужицком хребту, Барков плоты вязал, но горы, на которых жили эти люди, так с тех давних пор и назывались по ним: одна – Чертовкина, а другая – Баркова.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.