Азазель - [87]
— Я смотрю, ты увлекся описанием! Достаточно… Закончи-ка рассказ о том, что происходило. Твое живописание Марты возбуждает меня.
— Прочь от меня, Азазель…
Когда Марта подошла совсем близко, я уперся взглядом в лиф ее платья, который от талии до самой горловины был расшит двумя рядами бисера, подчеркивая округлость грудей. Она приблизилась еще немного — и мой взгляд поднялся выше, к тому месту, где шея переходила в изящный подбородок. Я не смел поднять голову и заглянуть ей в глаза. Думаю, в тот момент Марта поняла, как меня влекло к ней. Наконец я взглянул ей в лицо: она улыбалась, и на щеках ее играли ямочки. А я… я тут же утонул в ее медовых глазах.
— Ну как тебе, отец мой? — спросила она. — Это один из трех нарядов, которые подарил мне вчера ночью глава каравана.
— Мило, Марта. Очень мило, дочь моя.
— Немного тесновато в груди, но со временем растянется.
— Да, да… Давай присядем там, у двери.
— Еще слишком рано для прихода мальчиков, давай посидим здесь.
— Нет, Марта, это будет нехорошо… Наше место там.
Рассиживать вдвоем в дальнем углу библиотеки, где свет из ближайшего окна падал только на стол, за которым я читал, было неловко. Лучше было присесть у двери, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Там, при свете, я мог получше рассмотреть ее наряд… Марта уселась передо мной на стул, подложив под себя ладони, и принялась болтать ногами. Ее платье колыхалось в такт движениям, безмерно смущая меня. Она смотрела мне прямо в глаза, а я старался увернуться от ее взгляда. Вдруг она запела какую-то неизвестную мне песню, и ее очарование стало неотразимым. Делая паузы, она вздергивала свой тонкий подбородок и прикрывала глаза, словно взывала к небу. Ее тогдашнее пение подействовало на меня как дурман, дрожью отзываясь на моей коже, чтобы затем замереть внутри. Звук ее голоса уносил меня в бескрайние дали, убаюкивал и наполнял такой печалью, что я забывал обо всем. Когда Марта закончила песню, я был совершенно опустошен.
— Ты не хочешь надеть клобук, отец мой?
Ее вопрос отрезвил меня, напомнив, что я не покрыл голову. На самом деле я не чувствовал ничего, кроме ее всеобъемлющего присутствия, захватившего меня целиком и полностью и влекущего к ней. Я неохотно поднялся и направился к столу, где забыл клобук. Я не видел ничего зазорного в том, чтобы, возвращаясь на место, еще раз взглянуть на Марту. Она тоже разглядывала меня, загадочно улыбаясь, что лишь умножало ее прелесть. Нужно было что-нибудь сказать, но почему-то все слова застряли у меня в горле. Внутренне я убеждал себя, что ее красота это погибель для того, кто познает ее. Погибель верная, ибо она глубже, чем можно себе представить, и больше, чем можно постичь.
— Почему ты так смотришь на меня, отец мой, и ничего не говоришь?
— Ничего, Марта, пустое. Я думаю… Скажи-ка, тебе сколько лет? И когда ты вышла замуж? И где твой муж? И твоя семья? Почему ты решила поселиться здесь с тетушкой?
— Как много вопросов, отец мой! Мне двадцать лет. А на остальные я отвечу в другие дни. По одному в день.
— Хорошо, хорошо, Марта. Расскажешь, когда захочешь и как захочешь.
«Но будут ли продолжаться наши встречи столько, сколько я пожелаю? — мысленно разговаривал я с Мартой. — За прошедшие несколько недель я так привык видеться с тобой, и будет ли у меня такая возможность, когда закончатся наши музыкальные занятия? Монахи не приветствуют присутствие женщин в монастырях, но ты отыскала путь в мое сердце. Удовольствуюсь ли я встречами с тобой только по воскресным утрам, когда ты будешь петь вместе с хором в церкви? Нет, нужно придумать какой-нибудь предлог… Я засею участок возле твоей хижины лекарственными травами и договорюсь, чтобы тебе поручили ухаживать за ними, а сам буду наведываться каждый день, чтобы приглядывать за посадками, и смогу видеть тебя, не вызывая подозрений. И так может продолжаться годами!.. И, возможно, настанет день, когда мне скажут, что Марта выходит замуж за одного из крестьян и перебирается жить в его дом. В этот день ты не только оставишь свою старую тетку, в этот день ты вынудишь меня страдать».
— Ты опять о чем-то задумался.
— Да, Марта… О тебе.
— Я знаю. Я чувствую тебя, Гипа.
«Гипа»… Я вздрогнул: она осмелилась назвать меня просто по имени! «Возможно ли, чтобы эта юница нарочно так волновала меня? — думал я, глядя на ее губы. — А может, она влюбилась, узнав меня лучше, может, ее поразило, как ловко я сумел вылечить ее тетку, а равно и мое впечатляющее исцеление начальника каравана? Я помню восторг и восхищение в ее глазах. Но разве лекарские навыки могут пробудить любовь ко мне? Ко мне, носящему монашескую рясу и живущему в монастыре? И потом, Марта — дитя, ей всего двадцать лет, она еще не знает, что такое любовь… А я? Я тоже не ведаю этого, несчастный монах! То, что произошло у меня с Октавией двадцать лет назад, нельзя назвать любовью, мы совершили грех… Впрочем, нет, Октавия любила по-настоящему, а с моей стороны это был грех, только грех. Мы провели вместе несколько прекрасных дней, но тогда я еще не знал цену времени, поэтому все закончилось тем, что я потерял Октавию и самым ужасным образом потерял самого себя. Я испугался ее любви и предпочел ускользнуть от этой женщины. А потом ее убили на моих глазах, и эта рана не затянется никогда… Кто знает, не потеряю ли я также ту, которая сидит сейчас передо мной, болтая ногами, как игривый ребенок? Должен ли я переступить через себя ради опасной и волнующей химеры? Нет, нет, этого не будет, нужно только собраться. Терпи, — говорил я себе, — какое бы ненастье ни разыгралось над тобой, и помни, что любовь — это буря, дремлющая в самом дальнем уголке сердца, которая сметет любого, кто станет у нее на пути… Ты благословенный монах и известный врач, ты не позволишь этому чувству уничтожить тебя, если не хочешь оказаться изгнанником в пустыне… Но ведь ты еще и поэт, и это поэтическая натура влечет тебя к этому прелестному дитя, которое дразнит тебя и забавляется твоим смущением. Тебе уже сорок, она тебе в дочери годится. А если завтра ты вдруг застанешь ее в объятиях другого мужчины, — тебе что, вновь возвращаться к своему обычному безрадостному и одинокому прозябанию?

Огромное войско под предводительством великого князя Литовского вторгается в Московскую землю. «Мор, глад, чума, война!» – гудит набат. Волею судеб воины и родичи, Пересвет и Ослябя оказываются во враждующих армиях.Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, хитроумный Ольгерд и темник Мамай – герои романа, описывающего яркий по накалу страстей и напряженности духовной жизни период русской истории.
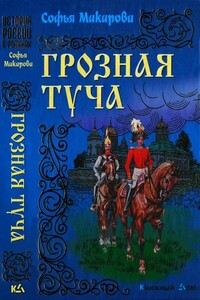
Софья Макарова (1834–1887) — русская писательница и педагог, автор нескольких исторических повестей и около тридцати сборников рассказов для детей. Ее роман «Грозная туча» (1886) последний раз был издан в Санкт-Петербурге в 1912 году (7-е издание) к 100-летию Бородинской битвы.Роман посвящен судьбоносным событиям и тяжелым испытаниям, выпавшим на долю России в 1812 году, когда грозной тучей нависла над Отечеством армия Наполеона. Оригинально задуманная и изящно воплощенная автором в образы система героев позволяет читателю взглянуть на ту далекую войну с двух сторон — французской и русской.
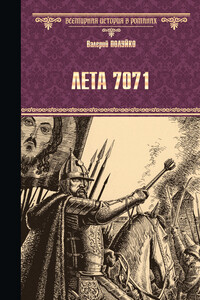
«Пусть ведает Русь правду мою и грех мой… Пусть осудит – и пусть простит! Отныне, собрав все силы, до последнего издыхания буду крепко и грозно держать я царство в своей руке!» Так поклялся государь Московский Иван Васильевич в «год 7071-й от Сотворения мира».В романе Валерия Полуйко с большой достоверностью и силой отображены важные события русской истории рубежа 1562/63 года – участие в Ливонской войне, борьба за выход к Балтийскому морю и превращение Великого княжества Московского в мощную европейскую державу.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.
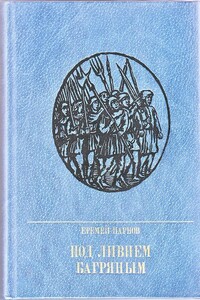
Таинственный и поворотный четырнадцатый век…Между Англией и Францией завязывается династическая война, которой предстоит стать самой долгой в истории — столетней. Народные восстания — Жакерия и движение «чомпи» — потрясают основы феодального уклада. Ширящееся антипапское движение подтачивает вековые устои католицизма. Таков исторический фон книги Еремея Парнова «Под ливнем багряным», в центре которой образ Уота Тайлера, вождя английского народа, восставшего против феодального миропорядка. «Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был дворянином?» — паролем свободы звучит лозунг повстанцев.Имя Е.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.