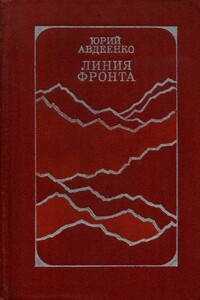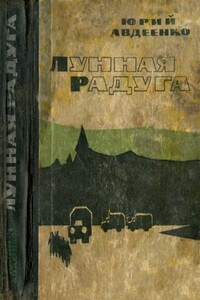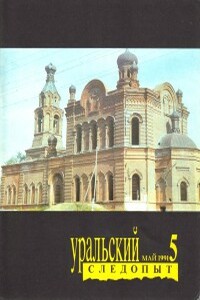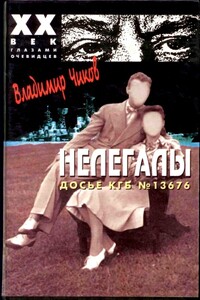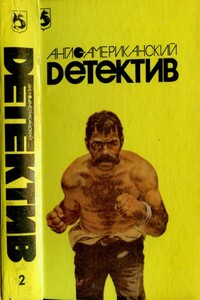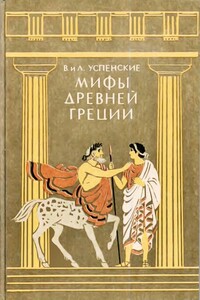Старая… Что с корзинкой ходила. Одна голова-то и уцелела. Господи, где там мой дед? — схватилась рукой за лицо, перекрыв рот, и долго-долго качала головой.
Любка хотела пощупать пульс.
Ванда сказала:
— Зачем? И так видно.
И опять заплакала навзрыд. Рыдание Ванды вывело бабку Кочаниху из забытья. Она воскликнула:
— Вы же горите, дети!
Оказалось, горит сарай. Трухлявый и маленький, которым никто никогда не пользовался и даже не складывал туда хлам. Но сарай примыкал к стене дома, и ясно, что огонь нужно было тушить.
На счастье, бочка была полна дождевой воды, застарелой, в которой плавали виноградные листья и головастики. Мы таскали ведрами воду. Баба Кочаниха заливала ею огонь. Обгорелые доски фыркали и шипели.
Красинин прибежал с топором. Принялся рубить стойки, так было разумнее всего преградить путь огня к дому.
Потом я увидел мать. Вначале она была белой, как молоко. А немного позднее лицо у нее раскраснелось. И она беззвучно плакала и как-то так, между делом, выбирала из дому вещи…
От кого она узнала там, в столовой, что бомбы упали на улице Красных командиров, не ведаю. Может, она просто почувствовала это, догадалась… Может, накануне ей снились плохие сны, в которые она так верила. Мать есть мать.
Я старался не смотреть на нее. Я думал о ящике в подвале, где хранятся патроны, гранаты, ракетница. Думал о том, что я напрасно собирал все это. Жаль, очень жаль! Но завтра я не убегу на фронт, потому что детство мое сегодня кончилось…