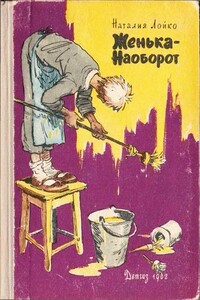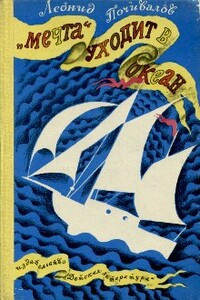Пора выходить из укрытия.
— Аська! — подпрыгивает Шурка. — Прошла рука? А то приходи. Весело будет!
Ася ждет, попросит ли Федя. Люся уверяет, что в каждую интересную девочку кто-нибудь должен влюбиться; если Ася хоть немножечко интересная, то пусть этим «кто-нибудь» окажется Федя. Что-то он скажет?
— Не знаю, смогу ли, — тянет, поглядывая на Федю, Ася.
Федя берет Шурку за ворот.
— Бежим! Чего уговаривать? Умные сами придут.
Лестница пуста, Ася все еще стоит, не замечая, что из кружки тоненькой струйкой льется жидковатый кофе. Она не ропщет, она понимает, как противно глядеть на девочку, у которой косы отхвачены ножницами так, что одна сторона волос ниже другой, а прядь, зачесанная набок, подвязана вместо утерянной ленты лохматым рыжим лоскутом.
В дортуаре безлюдно, тоскливо. Что с того, что стало больше порядку, что кровати стоят ровненько и пол подметен, что из классной комнаты притащили шкаф и попрятали туда рухлядь? Все равно — плохо… Ася со вздохом сует в глубь Люсиной тумбочки тарелку с едой, оставив наверху лишь кофе.
Асе хочется реветь, хочется к Варе. Та навестила ее пока только раз, и то второпях, когда уже в дортуаре был погашен свет. Вызвала в коридор и заставила съесть кусочек принесенного хлеба. Обещала приходить часто, когда станет свободней. Если получит письмо от Андрея, примчится даже ночью.
Тоска…
Ася чувствует, что время до обеда будет тянуться бесконечно. Возле двери лежит повязанная темным платком Сил Моих Нету. Она не всегда засыпает сразу после еды, иногда она сначала наслаждается. Принесет из столовой неб и аккуратно покрошит его в тряпочку. Подруги удивляются, как она может вытерпеть, кушать по крошечке, а она неизменно отвечает: «Так скорей перетерпишь голодушку» — и скрюченными, похожими на коготки пальцами кладет в рот очередную крохотку хлеба.
Сегодня Сил Моих Нету принесла в дортуар свою порцию мяса, не торопясь, очень ловко разобрала его на отдельные лоскуты, вернее, на нитки, сложила в кучку. Вот она взяла в рот одну дольку, сосет, как леденец. Сейчас, при дневном свете, особенно заметно, до чего эта девочка похожа на старушку. Кожа на лице серая, дряблая, щеки ввалились так, словно у нее и зубов-то нет. Ася знает, что Нюша выросла в подвале, что она прачкина дочь, что Люся за это пренебрегает ею, хотя и любит послушать ее россказни.
Стоило Асе присесть на край Нюшиной кровати, та потянулась и давай выдумывать:
— Нынче в баньке парилась… Пару… Воды… Сколько хошь. — Похоже, она принимала свой сон за действительность.
Напоминание о бане бередит Асино сердце. Когда они всем детдомом ходили туда, Татьяна Филипповна сквозь тесноту и густой пар высмотрели Асю на дальней скамье, протолкалась к ней, отругала, что мочит больной локоть, и стала сама тереть ей мочалкой спину. И очень расстелилась, что у Аси можно все ребрышки пересчитать. Люся говорит, что Дедусенко притворяется заботливой, но Ася знает, что не притворяется.
— Ты не пойдешь в мастерскую? — спрашивает Ася у Нюши.
— Где мне, дохлятине… — отвечает та и, подумав, великодушно протягивает Асе ниточку мяса: — Что-то ты не в себе? Ешь!
— Вот еще! — отказывается Ася. — Твой паек.
Ей понятно: такая щедрость связана с тем, что, стирая чулочки маленькой Наташи, Ася взяла и простирнула чулки Сил Моих Нету. Не потому простирнула, что та мала и нуждается в помощи старших (как было сказано в решении), а потому, что сил-то у нее действительно нету.
Ася встает, проверяет, высохли ли чулки, висящие по обе стороны подаренной Люсей иконки. Высохли, слава богу (на третий день), эти белые детские чулки. Белые потому, что институтки иных не носили. Отмылись они плохо — стирались без мыла прямо под краном такой ледяной водой, что у Асиных пальцев долго ломило каждый суставчик. На всех четырех пятках зияют дыры.
Асю вдруг осеняет счастливая мысль: здесь же требуется починка, штопка, заплаты! Схватив чулки, она бежит в мастерскую, бежит так, словно за ней гонится Люся или сам святой Серафим.
Близ входа в мастерскую Ася замедляет шаг, у дверей замирает. Доносится шутка Егорки Филимончикова:
— Федя, для чего бог ножницы сотворил?
Федя там, со всеми… Ему весело. Неужели и он усмехнется, когда войдет Ася?
Ася не входит. За дверью уже поют:
Топор, рукавицы,
рукавицы да топор…
Надо же было Татьяне Филипповне назначить именно Катю Аристову в заведующие чулочным хозяйством! Та и не взглянет на Асю, когда услышит просьбу о штопке. Она не откажет, она тут же разрежет пару белых чулок, нижнюю половину, ставшую мальчишескими носками, спрячет, а верхнюю протянет Асе, чтобы она часть распустила на штопку, часть оставила на заплаты. Но Катя может скривить свои толстенные губы, может даже назвать при всем народе Асю саботажницей, как назвала вчера Люсю…
Ася до тех пор топчется на месте, пока из-за поворота гулкого, темного коридора не показывается незнакомый седобородый человек в пенсне. Шея укутана шарфом, идет он медленно, шаркая глубокими галошами. Ася догадывается: Нистратов! Строгий Яков Абрамович разрешил заведующему домом встать с постели.
На днях, вечером, когда Ксения пришла посидеть в дортуаре у печки, был разговор, что надо уважать таких стариков, как Нистратов. Пусть он в чем-то и отсталый (Ксения не объяснила в чем), но, когда другие учителя бастовали, не признавали новую школу, он не только сам не оставил гимназию, где преподавал естествознание, но и других убеждал работать.