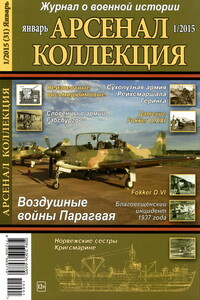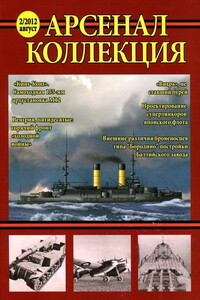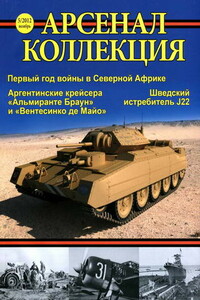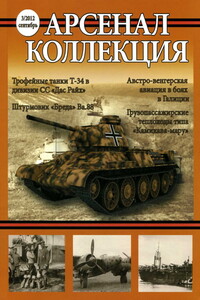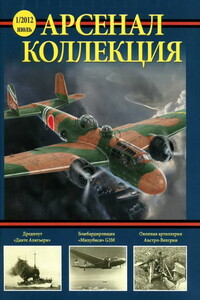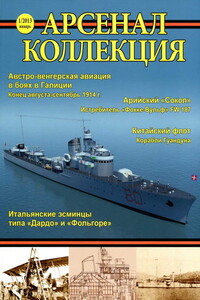Арсенал-Коллекция, 2015 № 02 (32) - [2]
Обозначения башен батареи: северо-западная — первая, юго-восточная — вторая. Батарея располагалась на полузакрытой позиции за прибрежными дюнами, поросшими хвойным лесом, примерно в 100 м от уреза воды, дальность стрельбы составляла 113 каб. В случае необходимости лес мог быть вырублен, и батарея могла бы стрелять прямой наводкой. Хотя технически башни могли вести круговой обстрел, угол обстрела батареи был ограничен 230-0-90° (сектор стрельбы 220°, директриса стрельбы 320°). Геологические условия места расположения батареи, а также необходимость обеспечить способность стрелять прямой наводкой заставили приподнять орудийные блоки на массивные фундаменты из гранитной кладки на цементном растворе. Одноэтажные башенные блоки размером 44x26 м имели в плане сложную форму, расстояние между центрами башен составляло около 122 м. Для возможности вести огонь из второй башни поверх первой, последняя была расположена на 2,2 м ниже. Между башнями находился несколько возвышавшийся над землей бетонный блок центрального поста батареи размером 24x34 м, совмещенный с силовой станцией. Башенные блоки и блок ЦП соединялись бетонной потерной шириной 1,5 и высотой 3,5 м. Общая длина батареи составляла около 150 м. Толщина монолитных стен башенных блоков составляла 3 м, покрытия — 2,4 м. Покрытие было усилено двутавровыми балками противооткола. Все блоки батареи имели песчаную обсыпку толщиной порядка 7-8 м с фронтальной (направленной на северо-запад) и боковых сторон. В каждом орудийном блоке располагались один длинный снарядный погреб размером 16x3 м и высотой 2,15 м, а также два зарядных погреба размером 6x3 м и высотой 2,3 м. Снарядный погреб располагался параллельно фронтальной стороне блока, а зарядные — боковым сторонам.
План 8-дм. башенной батареи №9. Район погребов был сильно разрушен, поэтому помещения в нем показаны условно
Проект Центрального командного пункта батареи Императора Петра Великого на о. Нарген
В управлении огнем 8-дм. батареи №9 на о. Нарген принимали участие центральный пост, расположенный на самой батарее, дальномерный пост, находившийся на покрытии убежища прожектора №9 батареи на северной оконечности острова, а также командный пост соседней 12- дм. батареи №106. В дальнейшем, после достройки и оснащения приборами управления стрельбой, управление огнем батареи предполагалось вести с центрального командного пункта батареи Императора Петра Великого. Он находился примерно в трехстах метрах к юго-востоку от батареи на небольшом холме, покрытом высоким сосновым лесом. Сооружение должно было представлять собою массивную тридцатиметровую бетонную вышку с толщиной стен около 5 м, увенчанную броневой рубкой, которая соединялась винтовой лестницей (планировалась и установка лифта) с нижней расширенной частью сооружения, где были расположены центральный пост и помещения вспомогательного назначения. Из броневой рубки и с площадки вокруг нее должен был открываться круговой обзор, и в то же время рубка прекрасно маскировалась в кронах деревьев окружавшего леса. Это было установлено путем предварительной постройки деревянной вышки с макетом боевой рубки. Тем не менее, достроить успели только нижнюю расширенную часть центрального поста, вышка построена не была, не была осуществлена и поставка ПУС Эриксона. На острове должны были располагаться три 210-см прожектора, однако фактически такой прожектор был один на северной оконечности — прожекторная установка №9, на южной оконечности располагался 200-см прожектор №5, на восточной — 110-см прожектор №11.
1916-18 гг. К началу 1917 г. русскими был осуществлен огромный объем работ по фортификационной подготовке Балтийского театра военных действий. Теперь в Финском заливе последовательно располагались Передовая, Центральная и Тыловая позиции из обширных минных полей и большого числа береговых батарей. Ближние подступы к Петрограду прикрывала Кронштадтская крепость с фортами «Красная Горка» и «Ино», вход в Ботнический залив прикрывался Або-Оландской позицией, а в Рижский залив — Моонзундской и Ирбенской позициями. Тем не менее, все это колоссальные усилия оказались напрасными. Батареи не смогли показать себя в бою. После Февральской революции 27.02. (12.03 по новому стилю) 1917 г. под влиянием агитации большевиков, попавшей на благодатную почву общей усталости от войны российского общества, началось разложение личного состава армии и флота, которое пошло просто катастрофическими темпами после Октябрьской революции 25.10 (7.11).1917 г. В декабре 1917 г. было подписано перемирие с немцами, и начались мирные переговоры в Брест-Литовске. Комендант МКИПВ генерал- майор Изместьев 19.01.1918. предложил Начальнику Сухопутной обороны Балтийского флота передать крепостной район эстонским частям, т.к. на чисто русские части нет надежды. И без того сложная обстановка усложнялась еще и борьбой за власть в Эстонии между различными группировками. Так, 30.11.1917. собрание Эстляндского дворянства (немецкое рыцарство) приняло решение об отделении Эстляндии от России, а 1.01.1918 г. Совет старейшин земского собрания, Земское правление и представители политических партий (исключая большевиков) на общем собрании приняли решение о провозглашении независимости Эстонии. Эстляндское дворянство к тому же обратилось к немецкому командованию с просьбой о скорейшем занятии Эстляндии немецкими войсками.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.

Боец легендарного 181-го отдельного разведотряда Северного флота Макар Бабиков в годы Великой Отечественной участвовал в самых рискованных рейдах и диверсионных операциях в тылу противника — разгроме немецких гарнизонов на берегах Баренцева моря, захвате артиллерийской батареи на мысе Крестовый и др., — а Золотой Звезды Героя был удостоен за отчаянный десант в южнокорейский город Сейсин в августе 1945 года, когда, высадившись с торпедных катеров, его взвод с боем захватил порт и стратегический мост и, несмотря на непрерывные контратаки японцев, почти сутки удерживал плацдарм до подхода главных сил.Эта книга вошла в золотой фонд мемуаров о Второй мировой войне.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.