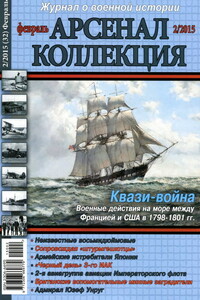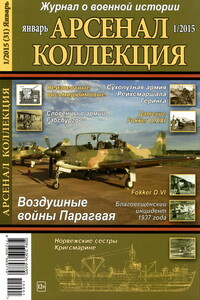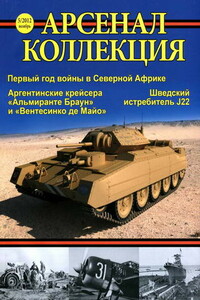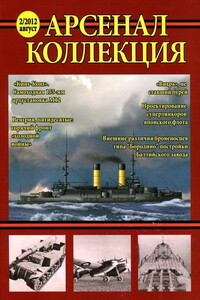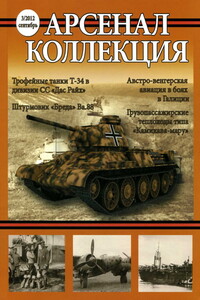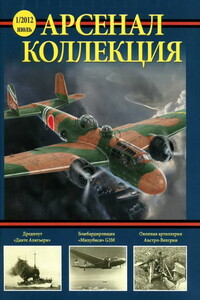Башня имела один снарядный и один зарядный погреб, оборудованные металлическими стеллажами для хранения снарядов и полузарядов. Подача производилось с помощью тележек, по две на каждый погреб, которые передвигались вручную по рельсовым путям, уложенным вдоль погребов. На тележках устанавливались лотки, которые ручным приводом поднимались или опускались до нужного яруса стеллажей. Два снаряда на тележке подавались к поданному окну, сквозь которое снаряды по наклонным лоткам подавались в подбашенное отделение на питатели, установленные на вращающейся кольцевой платформе, и далее в зарядник. Подача полузарядов осуществлялась аналогично. Зарядники со снарядом и двумя полузарядами в каждом поднимались к орудиям, заряжание было возможно в диапазоне углов от +3° до +15° и осуществлялось цепным прибойником. Промежуток между выстрелами составлял 25 секунд.
В башенной установке было установлено два 12-дм орудия в 52 калибра длиной. Калибр орудия составлял 12 дюймов (304.8 мм), а полная длина ствола 15 850 мм (52 кпб). В боекомплект орудия входили снаряды образца 1911 г., бронебойные и фугасные, а также чугунные ядра, все снаряды имели вес 470.9 кг. Для стрельбы по бронированным кораблям использовался бронебойный снаряд, который имел разрывной заряд из 12.8 кг тротила и был снабжен бронебойным и баллистическим наконечниками. Фугасный снаряд имел гораздо больший разрывной заряд - от 45 до 61 кг (в зависимости от чертежа) и также был снабжен бронебойным и баллистическим наконечниками. Наличие бронебойного наконечника у фугасного снаряда давало ему возможность пробивать броню до половины калибра снаряда. Большой разрывной заряд и наличие бронебойного колпачка придавали снаряду универсальность при стрельбе как по небронированным, так и по бронированным кораблям. В 1917 г. на вооружение флота поступили и чисто фугасные снаряды, без наконечников, однако неизвестно, попали ли они на батареи в Эстонии. Для учебных стрельб использовались чугунные ядра без разрывного заряда. Боевой заряд бездымного пороха весом 132 кг придавал снарядам начальную скорость 762 м/с и создавал давление в канале ствола 2400 кг/см².
В двухорудийных установках заказа Морского ведомства максимальный угол возвышения был принят +25° по образцу корабельных установок. Это было явным шагом назад по сравнению с береговыми установками заказа Военного ведомства, где максимальный угол возвышения составлял +35°. Дальность стрельбы снарядом обр. 1911 г. весом 470.9 кг при максимальном угле возвышения +25° должна была составлять 130 каб (23773 м). Это было на 5000 м меньше, чем дальность стрельбы башенных установок Военного ведомства (правда, они стреляли более легкими снарядами с использованием более мощных пороховых зарядов)! Угол горизонтального наведения установки составлял ±180°. Для вертикального и горизонтального наведения применялись электроприводы, имелись также запасные ручные приводы. В отличие от ранее построенных башенных установок, электроприводы механизмов башенных установок заказа Морского ведомства проектировались не с двигателями постоянного тока, а с двигателями трехфазного тока 220 В 50 Гц с электромагнитными муфтами, подобно башенным установкам линейных крейсеров типа «Измаил». Это создавало дополнительные сложности, так как опыта работы с электрооборудованием трехфазного тока еще не было. Для обеспечения горизонтальной наводки башни была применена уникальная, больше нигде не встречавшаяся конструкция. Это были два перископических прицела, горизонтального наводчика и башенного командира, которые выдвигались из башни на высоту до 2.1 м! Для учебных стрельб на крыше башни предполагалась установка 102-мм орудия.
Достройка установок по новому проекту с башнями заказа Военного ведомства. К августу 1915 г. были готовы только два жестких барабана, а изготовление башенных установок в силу условий военного времени остановилось на начальной стадии, так как мастеровые и станки перенаправлялись на выполнение более срочных работ. Надежд на скорое окончание башенных установок по заказу ГУКС не оставалось, поэтому 20.09.1915 г. Металлический завод был уведомлен, что по распоряжению Штаба верховного главнокомандующего четыре башни заказа Военного ведомства (заводские №5-8), ранее предназначавшиеся для Севастополя и Батума, передаются Морскому ведомству для МКИПВ. При этом две установки, предназначавшиеся для Севастопольской крепости, были переданы без жестких барабанов, так как использовались «родные» от установок заказа ГУКС. Две другие установки, предназначавшиеся для Батума, передавались без двух незаконченных станков. Отсутствующие станки были взяты из предназначавшихся для строившегося линкора «Император Александр III». Неподвижная броня установок не была готова, поэтому ее также взяли от установок Военного ведомства. Зато для башен Военного ведомства вместо штатных 12-дм орудий сухопутной артиллерии («СА») были, как тогда считали, временно, установлены орудия морской артиллерии («МА»). Вот такой симбиоз получился... Морское и Военное ведомство договорились, что после войны Морское ведомство закажет башенные установки вновь, и они будут возвращены Военному ведомству.