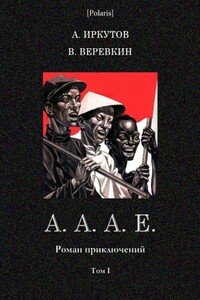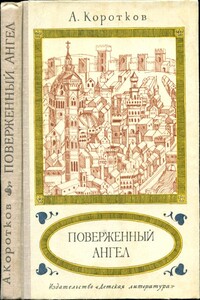С начала бега прошло десять минут. Есть в жизни человека моменты, когда и десять минут кажутся вечностью.
Нельзя сказать, чтобы такие моменты в жизни встречались часто, но когда вам хочется спать, и у вас болят зубы, или когда вы ждете поезда, — то десять минут произведут впечатление адской пытки. Ждать десять минут завтрака или обеда, и слышать в соседней комнате стук тарелок, ножей и вилок, чувствовать ароматный запах супа или жареных котлет, и знать, что нужно ждать десять минут… О, тогда десять минут обретают неожиданную способность растягиваться и превращаться в часы…
☆
Он терял силы, ему изменяла выдержка, но он никогда не потеряет гордости. Он никогда не повернет головы и не посмотрит на своего противника… Противника!.. Если он пойдет таким темпом еще два круга, от его противника останется одно воспоминание. Его противник узнает, как идти за ним, рекордсменом и лучшим стайером союза.
Шаги четкие, не отстающие, навязчивые шаги сзади, портили ему настроение, дразнили его, мешали ему жить и спокойно делать дистанцию. Он не успевал следить сразу и за нервными обрывками мысли, и за ритмом шага, и за дыханием.
Когда он пытался успокаивать сердце и следить за дыханием, — четкие удары отбивали у него в голове мотивы марша. Только он начинал успокаивать мысли, как сейчас же сбивался темп бега и срывалось учащенное биением сердца дыхание, и начинались колотья в боку.
Брызги и потоки воды, попадая в рот, напоминали затхлый остывший чай. В лицах на трибуне он видел одни иронические взгляды, а брошенные и пойманные сочувствующие улыбки казались сплошным издевательством.
Зрители подбадривали его криком, но он их не слушал. Над Малышом смеялись, предсказывали ему немедленный конец, но он не обращал внимания.
☆
На том же своем любимом повороте, против правого конца трибуны, у угла, свободно сделав несколько глубоких вдохов и выдыхов, — Малыш обошел первого. Взрыв удивления и негодования с трибун не произвел на него никакого впечатления. Не облегчил он и бешенство обойденного.
— Пускай ведет!..
— Не обходи!
— Спокойней, Шурка! Спокойней!
— Он зарежется!
— Береги силы!
Но он ничего не слыхал. Из последних сил, сбереженных на хороший финиш и, кто знает, может быть, и на новый рекорд, он решил проучить «выскочку», «мелюзгу», вздумавшую стать на его пути.
Но как ни ускорял он темпа, и ни удлинял шага, — ничего у него не выходило.
Малыш легко, не выказывая никаких признаков усталости, шел впереди.
На финише столпились заинтересованные. Сверяли время на секундомерах[13] и обсуждали происходившее.
Никто уже не смотрел на других участников, отставших более, чем на четыре круга. Внимание всех было приковано к двум соперникам: к высокому, нагонявшему маленького, и к маленькому, спокойно, без особого напряжения, уходившему от высокого.
Напряжение, крики со стороны и вид маленькой, сухой черной фигуры окончательно выбили из равновесия рекордсмена. В боку адски закололо, и он не мог глубоко вздохнуть. К горлу подступили тошнотворные клубки, а глаза заволоклись яркими зелеными, красными и желтыми пятнами.
— Сдох!.. Зарезался!..
Судья на финише бросил:
— Последний!..
Он тяжело взмахнул руками и брякнулся на землю тут же, у стойки. Его взяли на руки и унесли в клуб.
А Малыш все шел вперед. По его темпу можно было подумать, что дело идет не о десяти тысячах метров, а о каком-нибудь пустяке. Так ж совершенно ровно поднималась его грудная клетка, губы были плотно сжаты, а серые глаза смотрели вперед, не обращая внимания на шум. Он шел, с каждым метром прибавляя скорость. Судья и секундометристы приготовились и натянули ленточку. Зрители приникли к барьерам. Фотографы и репортеры столпились на финише. Оператор забрался на судейскую вышку в трибуне и вертел.
— Если мой секундомер не часы с архииерейской будки, то мы зарегистрируем новый рекорд, — сказал один из секундометристов.
Широкая белая ленточка на финише крепко натянулась, приглашая победителя прорваться.
Оркестр заиграл туш. Малыш уверенным темпом, хорошим и для тысячеметровой дистанции подходил к финишу.
I
— Да… это было моей первой блестящей победой…
Николай Омченко разделся и разгуливал по досчатому настилу купальни.
— Я прекрасно работаю во всяком виде спорта; даже акробатика не представляет для меня никаких тайн. Я делаю блестящие стойки. Например, у нас в центре есть небоскреб, и я делал на перилах крыши этого самого небоскреба стойку. Не какую-нибудь минутную, а великолепную пятнадцатиминутную стойку. Дело было утром. Я еще не завтракал. Тут же в ресторане я заказал себе стакан кофе, хлеба с маслом, и — видели бы вы рожи официантов, когда я, стоя на одной руке и на одном плече, пил кофе с бутербродами и после закурил папиросу «Наша марка»… Имейте в виду: я курю папиросы только «Наша марка»… Помню, подошел ко мне заведующий рестораном и говорит: «Умри, Коля, — лучше ничего в жизни не сделаешь». Да. И денег не взял. «Стыдно, — говорит, — такой талант, и вдруг — брать деньги»…
Слушателей у Омченко было двое. Один — телеграфист с зачесанными назад волнистыми волосами и прыщиком на самом кончике носа, другой — толстый мальчишка лет шестнадцати.